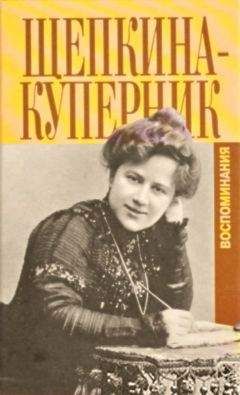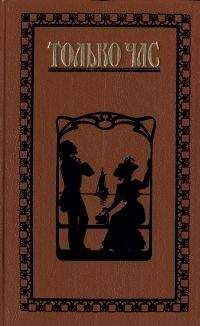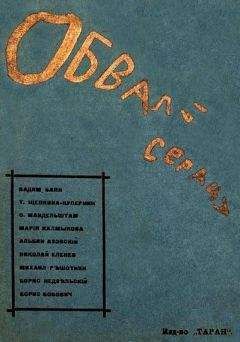Татьяна Щепкина-Куперник - Из детства Литы
— Лампадку ей зажги, а свечей чтобы не жечь позже девяти часов, — распоряжалась Агния. — Ступайте, а я потом приду, посмотрю, все ли в порядке.
Маринушка пошла в полосатую комнату, за нею Лита, за ними Слюзин внес вещи. Полосатой просторная, мрачная комната называлась потому, что обои в ней были темно-коричневые, широкими светло-желтыми полосами, и по этим полосам шли красные и синие цветочки. Полосатым, порядочно выцветшим ситцем была обита и старая, неуклюжая мебель, и ширмы, загораживающие большую деревянную кровать. Окно выходило в сад, одна дверь — налево, в угловую комнату, а другая — направо — была забита, завешена занавеской, и у нее поставлен тяжелый пузатый комод. В углу стоял, как почти во всех комнатах, киот со множеством темных образов, а над диваном висело овальное зеркало.
— Вот вам и комната! — сказала Маринушка. — Только не шумите и не стучите… чтоб там не услыхали! — кивнула она головой на забитую дверь.
— А там что? — с тревожным любопытством спросила Лита.
— Там… да… там тетенька ваша живет, они нездоровы, так их беспокоить не велено.
— Какая тетенька?
— Какая? Такая… — коротко и недовольно ответила старуха. — Пожалуйте-ка ваше белье, я разложу.
Лита почувствовала, что расспрашивать не следует больше, и смиренно принялась разбирать свои вещи.
Каждая вещичка, каждая книжка напоминала ей что-нибудь родное и милое — Соню, дорогую бабушку… Она вынула свою куклу. Для кукол Лита давно считала себя большой и уже не играла со своей Белоснежкой — так они с Соней называли куклу. Но сейчас Белоснежка была единственным существом, напоминавшим ей дом и способным вместе с ней перебирать в памяти все, что было; потому Лита крепко прижала к себе куклу, усевшись на пустой чемоданчик, и опять тихонько заплакала.
В комнату вошла тяжелыми шагами тетя Агния и, увидав плачущую Литу, неодобрительно покачала головой:
— Перестала бы ты плакать, Мелитина, можно подумать, что тебя в тюрьму упрятали. Приехала к родным; а будешь умницей, так никто тебя и не обидит.
Исчерпав этими словами свою родственную нежность, тетя Агния посмотрела, в порядке ли все устроено и развешено, затем прибавила:
— Беспорядка чтоб не было, каждой вещи свое место. Потом показала Лите, как пройти в комнату, где спала Маринушка, и сказала:
— Если что понадобится — спросишь у Маринушки. Ты как встаешь?
— В восемь часов дома вставала.
— Поздно, поздно! У нас в восемь часов самовар на столе; тебя Маринушка завтра разбудит, а там привыкай сама вставать. Ложишься-то рано. Ну Бог с тобой, да смотри не шуми!
И Агния ушла из комнаты, а за нею, засветив лампадку у киота, ушла и Марина, пожелав Лите спать спокойно.
В столовой большие часы в футляре гулко и густо, как погребальный колокол, сыграли «Коль славен наш Господь в Сионе» и пробили девять ударов, — только девять часов, а в доме и вокруг него было тихо, как поздней ночью.
Лита безумно боялась оставаться одна — она никогда не спала иначе как рядом с бабушкиной комнатой, причем дверь к ней была открыта настежь; но гордость не позволяла ей здесь признаться в этом. Она подошла к двери в угловую и осторожно приотворила ее — там были закрыты ставни, и на нее глянула зияющая черная пустота… Вся дрожа, она закрыла дверь плотно и изо всех сил напряглась, чтобы сдвинуть с места большой диван и заставить дверь. Двери в столовую она не боялась, потому что туда уходили и оттуда входили люди и за ней не было чего-то неизвестного и пугающего, как за дверью в угловую.
От лампадки в комнате было почти светло, но тени дрожали и перебегали на потолке и на стенах… В окно глядела сумрачная ночь, и черные тени деревьев заслоняли ее; но кто-то подошел и закрыл снаружи ставни. Потом послышался стук колотушки и протяжное: «По-слуши-ва-ай!.. Слу-ша-ай!..»
В трубе завывал ветер.
Лита наконец решилась раздеться и, поеживаясь от холода, улеглась под стеганое одеяло. Она взяла с собою куклу в постель; сейчас даже присутствие этой фарфоровой свидетельницы ее прошлой жизни, которую когда-то целовала и носила Соня, было дорого ей.
Она тихонько плакала и повторяла все молитвы, какие знала. И в эту ночь она в первый раз начала молиться не только готовыми и заученными молитвами, а своими словами, порывами и слезами, прося Бога помочь ей и не оставлять ее навсегда одну…
Она лежала без сна очень долго. Часы отбивали каждую четверть часа и играли «Коль славен наш Господь в Сионе». Под полом скреблись мыши; незнакомая полутемная комната была полна странных, неясных звуков, делающих тишину тревожной и жуткой: словно что-то трещало… сыпалось… как будто кто-то вздыхал…
Неужели это только кажется?
Нет, ясно, яснее…. вздох, почти стон… и словно чьи-то приближающиеся шаги…
Лита с ужасом поднялась на постели, держась руками за сердце, которое билось так, словно хотело выскочить. У нее мелькнула мысль о привидении…
Только потом она сообразила, что шаги слышны за запертой дверью — там, где больная тетушка, — и опять легла, успокаивая себя. Но заснуть она не могла и ворочалась, пока в ставне не вырисовалось красное сердце от солнца, и все это время за стеной она слышала то приближавшиеся, то замиравшие шаги и тихие стоны.
IV
Вернувшись к себе, Агния призадумалась. Как-никак появление в доме нового существа, к тому же не взрослого, сложившегося человека, а двенадцатилетней девочки, неизбежно влекло за собой осложнения и налагало обязанности.
Агнию нельзя было назвать злой женщиной, нисколько. Она только была сухой, черствой, эгоистичной натурой. С самого детства никто ее особенно не любил: мать предпочитала некрасивой девочке хорошенькую Мелитину, свой портрет. В ней развились хмурость и неприветливость, свойственные детям, которых не балуют. Мало-помалу она постаралась приобрести влияние на брата и сестер, которые начали невольно подчиняться ее властному характеру и побаиваться ее; это чувство осталось даже тогда, когда все уже вышли из детства. Ранняя самостоятельность и положение почти хозяйки в доме при выживающей из ума и стареющей матери помогли этому, и так вышло, что никто особенно Агнию не любил, никого и она не любила, если не считать младшей сестры Евлалии, к которой у нее было что-то вроде любви.
Вторая сестра Агнии, Мелитина (мать Литы), рано вышла замуж, без особенного одобрения сестры и брата, за человека небогатого и не за купца, а за простого «чиновника», как с презрением говорили у Рябининых. Молодые, впрочем, уехали сейчас же после свадьбы в Киев, и на руках у Агнии осталась только Евлалия. Евлалия росла красавицей, живой, своенравной и пылкой, и Агния баловала ее и исполняла все прихоти сестры.
И сейчас Агния покачивала головой, вспоминая, как бывало шумно в старом доме, когда съезжались к Евлалии подруги, как звенел ее голос, распевавший песни с утра до вечера; даже бабушка ворчала про себя: — Ишь, цыганское отродье-то, словно бы сама из хора, прости, Господи!
Но Агния говорила ей:
— Оставьте, бабушка, пускай веселится!.. Вот и довеселилась…
И Агния вздохнула, вспоминая Евлалию, и проговорила:
— Нет уж, довольно и одной… Больше баловства не будет!..
Вошедшей в комнату Марине она сказала:
— Что ж, Бог испытание послал.
Марина понимала свою хозяйку с полуслова и, усаживаясь с обычным вязаньем на стул у притолоки, подтвердила:
— Новую обузу вам, это истинно. Тоже ведь за нее Богу ответ давать!..
Обе повздыхали, потом, как и всегда, Агния взялась за толстую синюю книгу с золотыми буквами и золотым крестом на переплете и, надев очки, принялась за вечернее чтение, чтобы унять свои мысли.
Но, прочтя несколько страниц, она приостановилась и благоговейно подняла глаза к небу, пошептавши краткую молитву. Потом обратилась к Марине:
— Вот, Маринушка! Мы-то так да сяк, а Бог-то вон Он!..
Это красноречивое вступление до того заинтересовало Марину, что она опустила вязанье на колени и, воззрившись на Агнию, превратилась в слух. Она уже привыкла, что за чтением своих книг Агния, найдя что-нибудь особо поучительное, поделится с нею прочитанным и они побеседуют на обычную тему о мудрости и благости Божией.
Агния Дмитриевна читала теперь житие преподобной Макрины и о том, как воспитывала ее мать, благочестивая Эмилия.
«Добродетельная Эмилия, — гласила книга, — не приучая юной отроковицы к излишеству светских манер и не вдыхая в нее охоты к пустым удовольствиям, обучала ее всему, что прилично знать девице, которая должна жить в свете и сделаться хозяйкой.
Женское рукоделие и домонадзирание были ее занятием, а чтение Священного Писания или отеческих сочинений служило ей отдохновением.
Да не подумает кто-нибудь, что Эмилия, удалив от своей дочери приманчивые искусства большого света, украшением женского пола почитала невежество: благоразумная мать только предостерегала ее от суетности света. Хотела, чтоб дочь с разумом острым и основательным соединяла набожность просвещенную, для сего удаляла от нее все, не соответствующее этому намерению. Например, она не хотела и слышать, чтоб Макрина обучалась музыке, ибо знала, что это чрезвычайно развлекает мысли девиц и вдыхает в них скуку и отвращение от других занятий, более пристойных их полу и нужных всю жизнь».