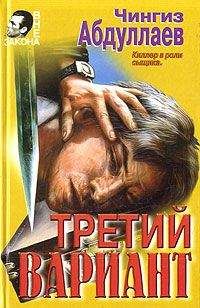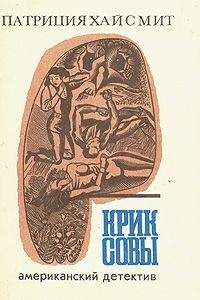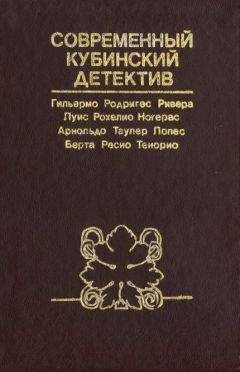Семен Подъячев - Как Иван провел время
Между тем кум обошел корову кругом и, взяв ее за хвост начал поднимать.
— Но, матушка, встань, подымайся!.. Да но, господь с тобой!.. Что это ты, Христос с тобой, а?..
— Не мучай ты ее, — сказала баба, — все одно уж!..
— Прирезать бы, — сказал Иван, — по крайности — мясо, говядина…
— Больную-то?
— Наплевать! Продать можно… А как издохнет, тогда и вовсе в овраг стащить задаром.
— Нет уж, господь с ней, — сказала баба, — может, я так поправится. Отойдет, может, господь даст.
— Навряд… мой совет — прирезать…
— Жалко! — сказал кум.
— Жалко, чудак, люди мрут… знамо жалко, и ничего не поделаешь… Прирезать, говорю, продать мясо можно… Польза, чудак, а то так бросить…
— Само собой!
— Не дам резать, — вступилась баба, — не дам. Пущай издыхает, не дам! Ну вас к шуту, советчики! Ступай, свою режь.
— Да ведь я для вас же, — сказал смутившийся Иван, — вас жалеючи… Мне все одно.
— Все одно, — передразнила его баба, — как же, оно и видно! Чужая-то болячка не больна… Легко сказать: прирезать!.. У меня, небось, дети. Вон ребенок в люльке, тянет меня, а како у меня молоко, с чего ему быть-то? Кровь мою сосет!.. Думала, отелится, посажу на рожок… ан вот господь-то!..
Она заплакала еще пуще и тоже перелезла через слеги.
— Родимая ты моя, матушка, кормилица! — заговорила она. — Сглазил тебя недобрый человек… Сама я, дура, виновата… Догадала меня нелегкая позвать тетку Федосью. «Поди, — говорю, — родная, глянь на мою белянку, как, мол, она, по-твоему, причиняет ли? Как, мол, думаешь, когда должна быть?». Посмотрела она, обошла вокруг, пощупала. «Скоро», — говорит. Вот тебе и скоро! С этого раза и заболела, и с того самого, родной ты мой, начала мытиться. Я думала, так, мол, что-нибудь, ан нет, гляжу: хуже и хуже, хуже и хуже… Я к баушке: поглядела та, на воду пустила шарик, говорит: «С глазу… сглазила, — говорит, — женщина…» Ну, тутатко-то уж я и поняла… тутатко-то я сразу поняла, чьи это шутки… уж тутатко-то я самое себя… уж тутатко-то я!..
Иван слушал:
— Божья воля! — сказал он.
— Само собой! — согласился кум, стоя около коровы к какими-то посоловевшими, точно у пьяного, глазами глядя на нее. — Плачь теперича, не плачь, ничего не поделаешь… Крышка! Печать гербова!
— Тебе что, — набросилась вдруг на него жена, — тебе, знамо, не жалко… По-твоему, хучь и мы-то бы все передохли, ты и глазом-то не моргнешь… радехонек будешь… Тебе что?.. Вот только и думаешь, как бы налопаться в казенку сбегать!.. Только и заботы у него… Напьется, нажрется — на печку! А я рвись на все части, как, прости, господи, каторжная какая!
— Ну, запела, чинарейка!..
— Не любишь! Не нравится, а? Чего рыло-то воротишь? Правду баю.
— А ну тебя к лешему с правдой-то твоей, язва… Пойдем, кум, в избу курить.
— Нет уж, я пойду, — сказал Иван, — недосуг мне… мне надо по делу… Так я к вам завернул, на минутку, живы ли, мол, ан, ишь, у вас дела-то… Ну, дай бог… авось, бог милостив, поправится. Прощайте покедова!
— А то зайди, посиди, — сказал кум.
— Нет уж, в другой раз когда…
— Ну, как хошь… с богом.
V
Иван опять по тропочке прошел на дорогу.
Сверху по улице, от трактира, ему навстречу шел молодой малый в короткой куртке. В руках у него была большая с ремнем через плечо гармонья «ливинка». Он шел, играл на ней и пел.
Иван остановился послушать,
Колечко мое.
Золотая проба,
Буду Ваньку любить
До самого гроба! —
напевал малый и это же самое повторял на гармонии.
Поровнявшись с Иваном, он остановился, приподнял левой рукой шапку и сказал:
— Здорово, дядя Иван! Чего стоишь, на морозе ждешь?
— Да так вот стою, — ответил Ивган. — Не знаю, кудя итти.
— Ступай к Чалому, — сказал малый, — там народу — страсть!..
— Много? — переспросил Иван.
— Страсть… сесть негде… все столы заняты…
— А ты что ж ушел?
— Да что ушел… денег нет — уйдешь…
Он опять так же поправил на голове шапку и, отойдя от Ивана шагов на пять, заиграл и громко запел.
«Ишь ты, — сказал про себя с какой-то затаенной завистью Иван, — ему и горя мало, весело! И я ведь допрежь когда-то так же вот хаживал, тоже было дело… а теперича вот… н-да!»
Он постоял еще с минуту на дороге, озираясь по сторонам, сам не зная, чего нужно, чувствуя только, что у него на сердце лег какой-то тяжелый холодный камень и давит его с каждой минутой все сильнее и сильнее.
«Пойду к Филатычу, — подумал он, — посижу, может, не разгуляюсь ли. Что это, господи, со мной делается такое?.. Свет белый не мил!.. Экай карактер подлый — сам себе не рад!.. Пойду!»
Он повернул назад и направился к новенькому, крытому железом, веселому с виду домику.
Взойдя на крыльцо, он хотел было постучать, да увидал, что дверь не заперта, и вошел так.
Постояв немного в светлых и чистых сенцах около обитой новой клеенкой двери, послушав и ничего не слыша, дернул за скобку и отворил дверь. На двери по ту сторону был приделан звонок, который громко и как-то по-чудному часто задребезжал.
Иван очутился в кухне, где все было грязно и неряшливо. Он остановился у порога и подождал, слушая.
— Кто тама? — раздался откуда-то из-за глухой перегородки женский сердитый голос.
— Я.
— Да кто я-то?
— Я… Иван… Цыдилин Иван.
— А-а-а!.. Сейчас!..
Дверь отворилась, и на пороге показалась толстая, рыхлая баба.
— Матрене Васильевне, — поклонился Иван, — здравствуйте… с праздником!..
— Спасибо, — ответила женщина и, отойдя от двери, тяжело и грузно опустилась на табуретку. — Ох, родной ты мой, какой уж праздник… грех один!
— Семен Филатыч, а? — спросил Иван.
Баба вместо ответа махнула рукой так выразительно, что Иван сразу понял, в чем дело.
— Давно ли? — спросил он.
— За неделю до рождества начал… жрет и жрет, жрет и жрет. А я-то через это каку муку несу!.. Истинный господь, ни одна мученица того не видала, что я вижу! Поди, вон на него погляди, полюбуйся.
— Да что ж мне ходить? Беспокойство одно!
— Ничего… поди… может, он с тобой-то как-нибудь не образумится ли?.. Измучил меня! Лается, лежит, как собака на цепи… Пойдем-кась!
Она поднялась с табуретки и, отворив дверь в комнату, сказала:
— Иди… ничего… Оставь шапку-то здеся… положь вон на стол…
Иван вошел в комнату. Здесь тоже все было не прибрано и в беспорядке. На столе стоял самовар и грязная посуда. По стенам висели, как попало, фотографические карточки и две картины в золоченых багетовых рамах, изображавшие: одна — Иоанна Кронштадтского с крестником, а другая — какую-то «баталию» из русско-японской войны.
Комната разделялась перегородкой на две половины, и из другой половины, где спали хозяева, слышался храп и сопенье. Там в настоящую минуту находился «сам» загулявший Семен Филатыч.
Третья неделя подходила к концу, как он запил.
Сначала он уходил в трактир, к Чалому и пил там на народе, теперь же ослаб, не мог уходить и «жрал», по выражению жены, у себя дома, валяясь с утра до ночи на грязной постели, страшный, совершенно потерявший «лик» человеческий, и осипшим, глухим, точно в пустую бочку, голосом сквернословил.
Около его «логовища», как говорила жена, стояла табуретка, а на ней бутылка, стаканчик «лафитничек» и соленые огурцы.
Через самые короткие промежутки времени он наполнял «лафитничек», выпивал, жевал огурец, плевался и начинал приставать к жене, служившей мишенью для его ругательств.
Ругались они, собственно говоря, оба (жена тоже не оставалась в долгу) и, ругаясь, называли друг дружку на «вы». «Вы, Семен Филатыч», «Вы, Матрена Васильевна».
Со стороны как-то чудно и смешно было слушать их.
Не успел Иван путем перекреститься в передний угол на висевшую там с четырьмя лампадами «божью благодать», как из спальни раздался знакомый ему голос:
— Матрена Васильевна, встаньте передо мной, как лист перед травой… На-а-е-лейте!..
— Пойдем-кась, — сказала Матрена Васильевна, — погляди, полюбуйся, каков он есть.
— Вот к вам Иван Григорьевич пришел, — сказала она лежавшему на боку Семену Филатычу, войдя вместе с Иваном «в спальню», — с праздником пришел поздравить.
Семен Филатыч вытаращил налитые кровью полоумные «бельмы» на Ивана и, помолчав, зарычал:
— А-а-а, Иван!.. Ванька жулик! Че-е-ерная сотня… а-а-а! Водки хошь?.. Выпей, выпей, жулье!..
— Да будет вам, — начала жена, — что вы над собой делаете-то? Кого вы удивить-то этим хотите? Никого вы этим не удивите, себе только вред. Вы встаньте-ка, поглядите на себя в зеркало… на кого вы похожи стали… на всех зверей похожи стали!..
— Замолчать! — выслушав ее и еще больше тараща глаза, закричал Семен Филатыч, — я приказываю за-а-а-мол-чать!.. Вы кто такие, а? Кто вы, я вас русским языком спрашиваю?.. За-а-а-молчать! С кем вы разговариваете, понимаете ли вы? За-а-а-молчать! Эй, Ванька, выведи ее, пожалуйста, вон!..