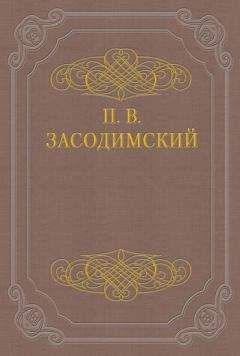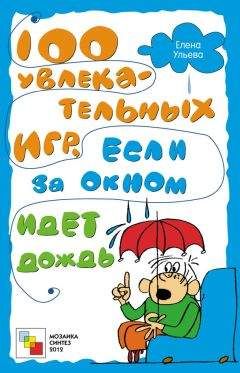Елена Ткач - Царевна Волхова
Года два мотался челноком — Польша, Турция… Потом завел киоск на Смоленке. Дальше — больше: взял у приятеля в долг под проценты довольно крупную сумму и открыл магазин. Все как надо оформил, с властями потолковал — власти им остались довольны… Видно, щедрость проявил — не поскупился. Хотя, попробуй-ка поскупись с префектурой! Закупил огромную партию товара, продавцов нанял, менеджера. Деловым человеком себя почувствовал. И соответственно — купил часы «Роллекс» и «Форд». Правда не новый, но с виду вполне «крутой».
Тася морщилась — вся эта мужнина кутерьма с первых дней стала ей ненавистна. Однако, терпела: муж семью кормит! Только совсем замкнулась мрачная стала, подавленная. И в комнатке у неё появился деревянный бар на колесиках.
Тут оказалось, что она вновь беременна. И как узнала, пританцовывать начала, песни петь, стоя у плиты. И все веселей они с Элей перемигивались за столом, все тесней вечерами прижимались друг к другу, перечитывая трилогию Толкиена. Бар был задвинут в чулан.
Работу она оставила с легкостью — долго упрашивать не пришлось… Днем принялась вышивать крестиком, говорила, смеясь, что когда подрастет Элькин братик или сестричка и прочтет ей наизусть «Сказку о мертвой царевне» Пушкина, — вот тогда работа её будет закончена. А сюжет вышивки — домик с башенкой, мезонином и открытой верандой, окруженный цветущим садом, — этот дом воплотится. Появится наяву. Дом, в котором сбываются мечты…
Вышивать Тася научилась у бабушки. Она вообще многое от неё переняла: и мечтательную задумчивость, и умение общаться с детьми как с взрослыми без сюсюканья и снисходительности. На равных. И ещё одному научила её бабушка Тоня — разговорам с живой природой. Тася, когда оказывалась в лесу, обязательно убегала от своих спутников, пряталась в самой чаще и говорила с деревьями. С цветами, с травой — со всем, что дышало и радовалось вместе с ней. Это был её мир. Мир, в который она не желала впускать никого…
Тася успела вышить крылатого ангела в правом верхнем углу будущей картины, когда родился Семен. Голубоглазый улыбчивый Сенечка. И девятилетняя Эля с недетским рвением принялась помогать маме выхаживать крохотного братишку. Куклы были заброшены — не выдержали конкуренции! Эля через два месяца уже самостоятельно купала ребенка, а потом подолгу носила его на руках, вглядываясь в глаза и вдыхая теплый и сладкий запах младенческой кожицы. Ей казалось, что небеса вот-вот раскроют ей свою тайну, светящуюся в этих родных глазах. Она знала: брат пришел к ним из мира иного, небесного, и в глазах его какое-то время ещё будет светиться этот нездешний свет.
C рождением брата по-существу кончилось Элино детство. Впрочем, она не слишком-то им дорожила — ей бы поскорее войти в мир больших, научиться тому, что умеют они и читать те книжки, что они читают… И сама она, покачивая колясочку во дворе, шептала дремлющему братишке пушкинскую «Сказку о царе Салтане», которую помнила наизусть. И ритму стиха подчинялось мерное покачивание рессор коляски, и головка ребенка чуть подрагивала на подушке в такт, и Эле казалось, что этот ритм — залог того, что они никогда-никогда не расстанутся… и все будет у них хорошо… И течение времени только ещё разогреет ту теплоту и любовь, которые нарождались и ширились в ней. И время качалось над ними, подчиняясь ритму стиха.
А потом умерла бабушка Тоня. Умерла внезапно, во сне. Ей было восемьдесят девять с половиною лет. Нескольких месяцев не дотянула до девяноста…
И с её смертью внезапно прервался тот мерный налаженный ритм, которым держалась семья. Точно невидимую нить дернул кто-то. Дернул и… оборвал.
Тасина мама никак не могла свыкнуться с горем и плакала дни напролет. Она ничем более не интересовалась, перестала навещать дочь и внуков, забросила все дела свои невеликие — дом, хозяйство… На уговоры родных обратиться к психоневрологу только в сердцах отмахивалась — с уходом матери жизнь утратила для неё смысл. И было ещё одно, что сжигало её, — только ни с кем этим делиться она не хотела, — обида на мать. Ведь та и перед смертью не рассказала ей, кем был её безвестный отец…
Тася металась, не зная как помочь матери, упрашивала сходить в церковь — исповедаться, причаститься — легче будет… Но в ответ Татьяна Гавриловна только с укором на неё посмотрела и сообщила, что греха на ней нет и каяться ей не в чем. Вскоре она совсем занемогла и по настоянию мужа, Сергея Алексеевича, легла на обследование в больницу. У неё обнаружили диабет в запущенной форме. Таблетки не помогали — нужно было колоться. Инсулин и одноразовые шприцы повсюду с собой: поедешь куда-то, забудешь конец! Но от такого образа жизни она наотрез отказалась. Мол, будь что будет, но так не хочу…
Спустя год, возвращаясь под вечер из магазина, Татьяна Гавриловна потеряла сознание. Пока вызвали скорую, пока, исследуя содержимое её сумочки, нашли нужные телефоны и отыскали мужа… Она была в коме. Только глубокой ночью Сергей Алексеевич сообщил Тасе что с мамой. Та примчалась в больницу. И на несколько минут придя в сознание, Татьяна Гавриловна успела рассказать им о том, что всю жизнь скрывала, о том, что иссушило ей сердце — о тайне бабушки Тони.
Она светло улыбнулась, благословила дочь. И под утро ушла.
А осенью, спустя три месяца после смерти жены умер и Сергей Алексеевич, Тасин папа.
Вот с этих-то пор Анастасия и попросила Элю звать её Тасей. Прежде её звали Настей, Настюшей… по-разному. Она сказала дочери, что не знает своего настоящего имени — имени родового, фамильного… и хочет изменить самый звук, то есть голос своего имени. Не фамилию сменить, а то единственное из имен, которое было истинным. Настоящим. Как будто перчатку бросила. Однако, кому перчатку — не самой ли себе? Открытое, слегка свистящее имя «Настя» она сменила на короткое, глубокое, как бы таящее в себе загадку — Тася. Зачем? Быть может, и сама не знала ответа…
Когда Николай по привычке окликал её Настей или Настасьей, в ответ в него летели предметы домашнего обихода: чашки, тарелки, пепельницы… Нервный срыв. Она осталась одна. Да, конечно был муж, были дети… Но святое прикрытие, защищающее человека от темноты, — родители, — они ушли от нее.
Тайна семьи опахнула предчувствием новых потерь. Боль занималась в душе — непостижимая боль, не ведающая истока. Она не подчинялась никаким уговорам разума, ломала все привычные схемы. Только в душе как будто растворилась незримая дверца, и, немой, проник в неё смертный ужас. Призрак беды… И от этого призрака Тася не знала спасенья.
А потом ей стали сниться странные сны. Сны, в которых являлась ей любимая бабушка Тоня и просила исполнить то, в чем когда-то сама отказала собственной дочери — разыскать деда. Вернее, его могилу.
В её комнате опять появился бар на колесиках. Благо, Сенечку она уже не кормила. И ритм поэзии — ритм, который мерно и ровно помогал ей наметывать жизнь — стежок за стежком — угас в этом доме. И дом помертвел.
И надевши под пальто длинную пеструю юбку, туго повязав по самые брови черный платок, подхватив на руки Сенечку и кивком призывая Элю следовать за собой, Тася каждый день выходила из дома — в метель ли, в слякоть… бродить по Москве. Бродить бесприютной странницей, чтобы вглядываться в окна, в квадратные плечи дворов, чтобы научиться считывать знаки, которыми полнится любое живое пространство, постигнуть тайнопись, — непроглядную, неприметную… внятную только чуткой душе. Тася без слов обращалась к Москве — молила о помощи. Она просила, чтобы город пощадил ее…
Но город молчал. Москва не выходила на связь.
И те, к кому обращалась она, — родственники, знакомые, не могли ей помочь. Никто ничего не знал о прошлом бабушки Тони. Говорили только одно: раз её отчество было «Петровна», значит отца звали Петром… Но Тася не успокаивалась — шла и шла. От одной двери к другой. От одного человека к другому. Шла в РЭУ, архивы, ЗАГСы. Она не собиралась сдаваться. Билась в закрытую дверь. И жизнь, словно сгнившие доски мостка, стала проваливаться под ногами.
Николай был занят собой. Делами. Зарабатывал деньги. Он видел, что жене плохо — очень плохо. Но бизнес требовал «глубокого погружения» и не оставлял времени и сил протянуть руку, подхватить тонущую Анастасию и вытянуть на берег. Спасать человека — тяжкий труд. Повседневный. Выматывающий. Да и результата никто гарантировать не возьмется. Словом, отступался он от нее. Медленно отступался, но верно.
А Эля? Она боялась лишний раз потревожить маму. Боялась причинить боль. Нервишки у неё расшатались, в гимназии за ней утвердилась слава неуспевающей ученицы, хотя в начальных классах Эля была отличницей… Девицы все чаще покручивали пальцем у виска у неё за спиной — мол, совсем Элька «поехала»! Вспыльчивая, замкнутая, недотрога. Ничем толком не интересуется, на дискотеки ни ногой и вообще… Над ней начали издеваться. А она? Она зажималась все больше. И ни дома, ни в классе, ни в городе нигде не было ей покоя, нигде не находилось пристанища её простуженной душе… Она было попыталась «пробиться» к папе, но тот не принял её попытки — внутренне он полностью отгородился от семьи и весь погрузился в работу. И тогда Эля стала учиться. Учиться быть мамой Сенечке. Теперь у него было две мамы: одна — с сурово сжатыми губами, резкая и неулыбчивая. И другая маленькая мама, ласковая, снисходительная и растерянная.