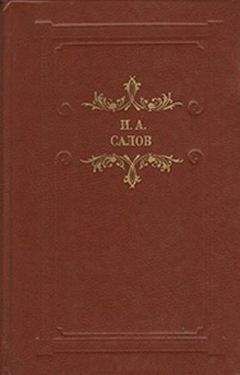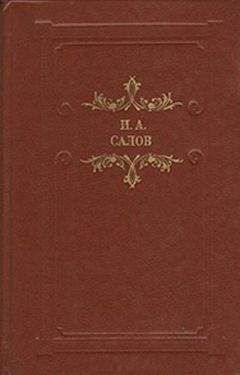Илья Салов - Паук
— А деньги-то вперед умеешь брать!
— Я не деньгами брал, батюшка, ваше высокое степенство…
— А не все едино, чем бы не взял?
— Заработаем, батюшка Степан Иваныч!
— Знаем мы, как вы зарабатываете!
— Ей-ей, заработаем!
— Ладно. Только ты меня помянешь, по-о-о-о-мянешь.
Мужичонка бухнулся было в ноги, но Степан Иваныч даже и внимания на него не обратил. Простившись с нами, он уложил свой саквояж, сел в тарантас и, крикнув кучеру: «Пошел!» — покатил по дороге, обдав нас густым облаком пыли. Мы тоже тронулись, а за нами затрусил и мужичонка на своей кляче, болтая и руками и ногами.
— Разорил, совсем разорил! — ныл мужик, следуя за нами. — По миру как есть пустил… А все водка да баранина виновата.
— Как баранина? — спросил дьякон, закуривая папиросу.
— Свадьбу справлял я, дочь замуж выдавал, и пришла нужда взять у него водки да баранины на двадцать семь рублев. Целых три года работал на него, а на место того долгу теперь насчитывают на мне уж не двадцать семь, а индо тридцать шесть рублей…
— Вот те на! — вскрикнул дьякон. — Как же так?
— Да выходит так. Взявши баранины и водки, я проработал на Степана Иваныча все лето, а на второй-то год не пошел. За это за самое, что я не пошел, всю мою работу в счет не положили и опричь того оштрафовали. Другие два года работал я оба лета, и за мной оставалось всего семь рублей. Семь рублей эти я должен был молотьбой заработать; взялся, значит, семьдесят копен ржи обмолотить, да, на грех, пошло ненастье, обмолотить-то мне и не привелось; вот на меня и накинули штрафу по шестидесяти копеек за копну, и вышло за мной долгу сорок два да семь — сорок девять рублей… Спасибо, тринадцать рублей простили, так и выходит, что за мной теперь тридцать шесть только…
— А ты бы к мировому! — проговорил дьякон.
Но кучер перебил его:
— Что это, отец дьякон, — проговорил он, внимательно осматривая окрестность. — Нам, по приметам, теперича кабыть направо повернуть надо, вот по самой по этой дорожке, — прибавил он, указывая кнутом на дорогу, круто повернувшую направо.
— А вы куда едете? — спросил вдруг мужик громким голосом, словно проснулся.
— На болота на Тарханские.
— Коли на болота, так, вестимо, направо!.. Это за утками, значит?.. Час добрый…
Мы повернули направо, а мужичонка поплелся шагом по только что оставленной нами дороге. Духота все еще стояла невыносимая, но ветер стал уже не попутным, а боковым, и мы избавились от преследовавшей нас пыли…
II
Степан Иваныч Брюханов, которого только что мы встретили, был одним из важных людей описываемой местности. Это был человек лет шестидесяти пяти, благообразный, седой как лунь, худой как скелет, но с свежим румяным лицом и самыми вкрадчивыми, кошачьими манерами. Сапогов с каблуками он не носил и потому подходил всегда как-то неслышно. Подойдет и начнет крепко жать вашу руку обеими костлявыми, холодными своими руками и, пожимая, улыбается от счастья встретиться с вами. Его седой хохол, всегда торчавший кверху, напоминал знаменитый хохол фельдмаршала Суворова и придавал лицу Степана Иваныча весьма характерную особенность. Одевался Степан Иваныч щегольски, хотя и носил долгополые сюртуки, и, несмотря на свои почтенные лета, любил покутить и покуролесить с женщинами. Важным лицом Брюханов сделался потому, что имел в настоящее время тысяч восемь десятин земли, роскошную барскую усадьбу, купленную им вместе с землей у прогоревшего барина, и сверх того потому, что держал в аренде громадную крупчатую мельницу. Мельницу эту арендовал он так давно, что все называли ее не по фамилии настоящего ее владельца, а прямо «брюхановской». Всего этого, однако, конечно, было бы еще недостаточно для того, чтобы сделаться важным лицом, если бы Степан Иваныч не обладал капиталами, а главное — ловкостью, которая умеет капиталы эти не просаривать, а значительно приумножать. Вследствие таковой ловкости к приумножению росло, конечно, и влияние Степана Иваныча. Он был земским гласным[2] как губернским, так и уездным; был членом училищного совета, хотя и не умел писать, был директором тюремного комитета, был членом духовно-просветительного союза и даже почетным мировым судьей, хотя и смешивал синод с сенатом, а дворянскую опеку с опекунским советом. На земских собраниях Степан Иваныч говорил мало, но слушал со вниманием и свои соображения высказывал кому следует. Большею частью его даже и незаметно было, а глядишь — все, что требовалось ему провести, он провел, хотя и не говорил никаких громких речей. Всех окрестных мужиков Степан Иваныч держал на крепких вожжах и вожжами этими управлял с редким уменьем. Не было ни одного мужика, который не состоял бы ему должным. Хотя и плакались мужики на Степана Иваныча, хотя заочно и ругали его ругательски, но при встрече преклонялись перед ним и, как бы чувствуя над собою несокрушимую его силу, хватались за шапки и величали вашим высоким степенством. Его степенство, как и подобает, конечно, такому человеку, был украшен несколькими медалями, был приятельски знаком с властями как гражданскими, так и военными и духовными, имел у себя их фотографические портреты, подаренные самими оригиналами, с надписями: «на память, в знак моего уважения», или «дорогому Степану Иванычу», и, приезжая в город, бывал у них запросто, обедал, выпивал и отплачивал тем же гостеприимством, когда власти приезжали в уезд. Вследствие этого Степан Иваныч определял становых, квартальных, попов, дьяконов, учителей и других должностных лиц, а равно и увольнял таковых от занимаемых должностей. Патриот Степан Иваныч был тоже примерный. Как только требовалось пожертвование или патриотическое торжество, стоило только лицу власть имеющему шепнуть об этом Степану Иванычу, как он являлся на выручку. Стоило только шепнуть, что хорошо было бы сотворить то-то и то-то, что не мешало бы достойно проводить отъезжающего любимого начальника, что следовало бы поторжественнее встретить такой-то имеющий возвратиться полк, как Степан Иваныч немедленно откликался на призывный глас, собирал вокруг себя свою братию патриотов, шушукался с ними, подмигивал, делал намеки, хлопал счетами, божился, клялся, сообщал опасения и надежды, могущие последовать от отказа, и затем, обделав дело, являлся к кому следует и, озаренный приятной улыбкой, докладывал, что он и все купеческое сословие готовы принести лепту на алтарь отечества. Поэтому-то Степан Иваныч, как только речь касалась патриотизма, немедленно поднимал голову и с гордостью называл себя патриотом.
Таковой безграничный патриотизм нисколько не мешал, однако, его высокому степенству прилагать все свое влияние к открытию сколь можно большего количества заведений с продажею питий распивочно и навынос. Не было села, не было сколько-нибудь сносной деревушки, в которых не развевалось бы кабацкое знамя Степана Иваныча. Знамя это было не ахти какое, оно состояло иногда просто из какого-нибудь лоскута коленкора, — но зато оно было всем знакомо, царило над местным населением и заставляло преклоняться перед собою. Сколько под знаменем этим было выпито, сколько под сень его было перетаскано разного добра мужичьего — сосчитать нелегко, но во всяком случае добра этого было несравненно более того, которое было пожертвовано на встречу полка в совокупности с проводами любимого начальника.
Все эти кабаки, фотографические портреты, громадные посевы, а равно мельницы и гурты рогатого и мелкого скота собирали в карманы Степана Иваныча все деньги околотка, и, легко приплывая, они в незначительных сравнительно размерах выпускались вон. Зато не было такой большой дороги, не было такого глухого поселка, по которому не двигались бы обозы с добром Степана Иваныча. Там ползет обоз с пшеницей, там с мешками муки, там обозы с бочками спирта и водки, там по чугунке гремят вагоны, нагруженные мешками, и на вагонах этих мелом написано: «Брюханов, Ревель, Москва». Там на лихих тройках скачут кабацкие ревизоры, там по полям, словно черкесы с нагайками, летают приказчики и объездчики. А здесь, по раздольным девственным степям, позванивая колокольчиками, нагуливается «товар», т. е. гурты. Рослые быки с громадными рогами и отвислыми зобами, медленно и сонно переступая с ноги на ногу, щиплют траву; вокруг них гуртоправы с длинными кнутами в руках, с загорелыми и чумазыми лицами, а неподалеку, в сторонке, возле огороженного «тырла», стоит с поднятыми кверху оглоблями кибитка, раскинув шатер, а в шатре спит богатырским сном распотевший приказчик. И все это принадлежит Степану Иванычу, ему одному.
Несмотря, однако, на столь солидное положение, несмотря на седину, убелявшую его голову, он не прочь был при случае тряхнуть стариной и вспомнить давно миновавшую молодость. Стоило только попасть ему в город, как, подобрав компанию (компанию он подбирал большею частью из благородных и людей военных предпочитал штатским), объезжал все имеющиеся увеселительные заведения, все монплезиры, эрмитажи, тропические сады, и во всех заведениях этих с появлением Степана Иваныча вино лилось рекой, и сам Степан Иваныч, так сказать, исчезал в объятиях арфисток, певиц и цыганок. Пели «чоботы», пели «пропадай моя телега, все четыре колеса», и Степан Иваныч был вполне счастлив. Находил на Степана Иваныча иногда такой же «стих» и в деревне, но там это делалось иначе. Он покидал тогда свою усадьбу и уезжал на крупчатку. Там, на этой крупчатке, в небольшом скромном флигелечке, под стон мельничных снастей, под шум падающей воды, в кругу своих деревенских приятелей, Степан Иваныч предавался оргии. К седовласому сластолюбцу являлись намеченные им красавицы, и мельничный домик оглашался песнями, оглашался звуками скрипки и кларнета, на которых играли двое из его «молодцов», и раздавался топот пляски. Вокруг Степана Иваныча собирались в то время местные адвокаты, становые и судебные пристава, учителя, фельдшера, и все это пило и безобразничало на счет Степана Иваныча, потешало его, потакало ему и вместе с тем упивалось поцелуями и объятиями сельских красавиц.