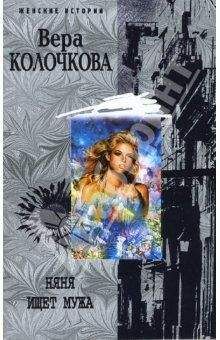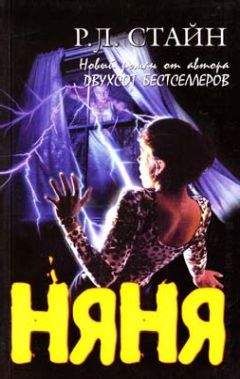Марина Цветаева - Повесть о Сонечке
Свою жизнь, свою бабушку, свое детство, свою «глупость»... Свои белые ночи.
Сонечку знал весь город. На Сонечку – ходили. Ходили – на Сонечку. – «А вы видали? такая маленькая, в белом платьице, с косами... Ну, прелесть!» Имени ее никто не знал: «такая маленькая...»
Белые Ночи были – событие.
Спектакль был составной, трехгранный. Первое: Тургенев, «История Лейтенанта Ергунова»: молодая чертовка, морока, где-то в слободской трущобе завораживающая, обморачивающая молодого лейтенанта. После всех обещаний и обольщений исчезающая – как дым. С его кошельком. Помню, в самом начале она его ждет, наводит красоту – на себя и жилище. Посреди огромного сарая – туфля. Одинокая, стоптанная. И вот – размахом ноги – через всю сцену. Навела красоту!
Но это – не Сонечка. Это к Сонечке – введение.
Второе? Мне кажется – что-то морское, что-то портовое, матросское, – может быть Мопассан: брат и сестра? Исчезло.
А третье – занавес раздвигается: стул. И за стулом, держась за спинку – Сонечка. И вот рассказывает, робея и улыбаясь, про бабушку, про жильца, про бедную их жизнь, про девичью свою любовь. Так же робея и улыбаясь и сверкая глазами и слезами, как у меня в Борисоглебском рассказывая об Юрочке – или об Евгении Багратионовиче – так же не играя, или так же всерьез, насмерть играя, а больше всего играя – концами кос, кстати никогда не перевязанных лентами, самоперевязанных, самоперекрученных природно, или прядями у висков играя, отстраняя их от ресниц, забавляя ими руки, когда те скучали от стула. Вот эти концы кос и пряди у висков – вся и Сонечкина игра.
Думаю, что даже платьице на ней было не театральное, не нарочное, а собственное, летнее, – шестнадцатилетнее, может быть?
– Ходил на спектакль Второй студии. Видал Вашу Сонечку...
Так она для всех сразу и стала моей Сонечкой, – такая же моя, как мои серебряные кольца и браслеты – или передник с монистами – которых никому в голову не могло прийти у меня оспаривать – за никому, кроме меня, не-нужностью.
Здесь уместно будет сказать, потому что потом это станет вживе, что я к Сонечке сразу отнеслась еще и как к любимой вещи, подарку, с тем чувством радостной собственности, которого у меня ни до, ни после к человеку не было – никогда, к любимым вещам – всегда. Даже не как к любимой книге, а именно – как кольцу, наконец, попавшему на нужную руку, вопиюще – моему, еще в том кургане – моему, у того цыгана – моему, кольцу так же мне радующемуся, как я – ему, так же за меня держащемуся, как я за него – самодержащемуся, неотъемлемому. Или уж – вместе с пальцем! Отношения этим не исчерпываю: плюс вся любовь, только мыслимая, еще и это.
Еще одно: меня почему-то задевало, раздражало, оскорбляло, когда о ней говорили Софья Евгеньевна (точно она взрослая!), или просто Голлидэй (точно она мужчина!), или даже Соня – точно на Сонечку не могут разориться! – я в этом видела равнодушие и даже бездушие. И даже бездарность. Неужели они (они и оне) не понимают, что она – именно Сонечка, что иначе о ней – грубость, что ее нельзя – не ласкательно. Из-за того, что Павлик о ней говорил Голлидэй (начав с Инфанты!), я к нему охладела. Ибо не только Сонечку, а вообще любую женщину (которая не общественный деятель) звать за глаза по фамилии – фамильярность, злоупотребление отсутствием, снижение, обращение ее в мужчину, звать же за глаза – ее детским именем – признак близости и нежности, не могущий задеть материнского чувства – даже императрицы. (Смешно? Я была на два, на три года старше Сонечки, а обижалась за нее – как мать.)
Нет, все любившие меня: читавшие во мне называли ее мне – Сонечка. С почтительным добавлением – ваша.
Но пока она еще стоит перед нами, взявшись за спинку стула, настоим здесь на ее внешности – во избежание недоразумений:
На поверхностный взгляд она, со своими ресницами и косами, со всем своим алым и каштановым, могла показаться хохлушкой, малороссияночкой. Но – только на поверхностный: ничего типичного, национального в этом личике не было – слишком тонка была работа лица: работа – мастера. Еще скажу: в этом лице было что-то от раковины – так раковину работает океан – от раковинного завитка: и загиб ноздрей, и выгиб губ, и общий завиток ресниц – и ушко! – все было резное, точеное – и одновременно льющееся – точно эту вещь работали и ею же – играли: не только Океан работал, но и волна – играла. Je n'ai jamais vu de perle rose, mais je soutiens que son visage etait plus perle et plus rose[5].
Как она пришла? Когда? Зимой ее в моей жизни не было. Значит – весной. Весной 1919 г., и не самой ранней, а вернее – апрельской, потому что с нею у меня связаны уже оперенные тополя перед домом. В пору первых зеленых листиков.
Первое ее видение у меня – на диване, поджав ноги, еще без света, с еще-зарей в окне, и первое ее слово в моих ушах – жалоба: – Как я вас тогда испугалась! Как я боялась, что вы его у меня отымете! Потому что не полюбить – вас, Марина, не полюбить вас – на коленях – немыслимо, несбыточно, просто (удивленные глаза) – глупо? Потому я к вам так долго и не шла, потому что знала, что вас так полюблю, вас, которую любит он, из-за которой он меня не любит, и не знала, что мне делать с этой своей любовью, потому что я вас уже любила, с первой минуты тогда, на сцене, когда вы только опустили глаза – читать. А потом – о, какой нож в сердце! какой нож! – когда он к вам последний подошел, и вы с ним рядом стояли на краю сцены, отгородившись от всего, одни, и он вам что-то тихонько говорил, а вы так и не подняли глаз, – так что он совсем в вас говорил... Я, Марина, правда не хотела вас любить! А теперь – мне все равно, потому что теперь для меня его нет, есть вы, Марина, и теперь я сама вижу, что он не мог вас любить, потому что – если бы мог вас любить – он бы не репетировал без конца «Святого Антония», а Святым Антонием бы – был, или не Антонием, а вообще святым...
– Юрием.
– Да, да, и вообще бы никогда бы не обедал и не завтракал. И ушел бы в Армию.
– Святым Георгием.
– Да. О, Марина! Именно Святым Георгием, с копьем, как на кремлевских воротах! Или просто бы умер от любви.
И по тому, как она произнесла это умер от любви, видно было, что она сама – от любви к нему – и ко мне – и ко всему – умирает; революция-не революция, пайки-не пайки, большевики-не большевики – все равно умрет от любви, потому что это ее призвание – и назначение.
– Марина, вы меня всегда будете любить? Марина, вы меня всегда будете любить, потому что я скоро умру, я совсем не знаю отчего, я так люблю жизнь, но я знаю, что скоро умру, и потому, потому все так безумно, безнадежно люблю... Когда я говорю: Юра – вы не верьте. Потому что я знаю, что в других городах... – Только вас, Марина, нет в других городах, а – их!.. – Марина, вы когда-нибудь думали, что вот сейчас, в эту самую минуту, в эту самую сию-минуточку, где-то, в портовом городе, может быть на каком-нибудь острове, всходит на корабль – тот, кого вы могли бы любить? А может быть – сходит с корабля – у меня это почему-то всегда матрос, вообще моряк, офицер или матрос – все равно... сходит с корабля и бродит по городу и ищет вас, которая здесь, в Борисоглебском переулке. А может быть, просто проходит по Третьей Мещанской (сейчас в Москве ужасно много матросов, вы заметили? За пять минут – все глаза растеряешь!), но Третья Мещанская, это так же далеко от Борисоглебского переулка, как Сингапур... (Пауза.) Я в школе любила только географию – конечно, не все эти широты и долготы и градусы (меридианы – любила), – имена любила, названия... И самое ужасное, Марина, что городов и островов много, полный земной шар! – и что на каждой точке этого земного шара – потому что шар только на вид такой маленький и точка только на вид – точка – тысячи, тысячи тех, кого я могла бы любить... (И я это всегда говорю Юре, в ту самую минуту, когда говорю ему, что кроме него не люблю никого, говорю, Марина, как бы сказать, тем-самым ртом, тем-самым полным ртом, тем-самым полным им ртом! потому что и это правда, потому что оба – правда, потому что это одно и то же, я это знаю, но когда я хочу это доказать – у меня чего-то не хватает, ну – как не можешь дотянуться до верхней ветки, потому что вершка не хватает! И мне тогда кажется, что я схожу с ума...)
Марина, кто изобрел глобус? Не знаете? Я тоже ничего не знаю – ни кто глобус, ни кто карты, ни кто часы. – Чему нас в школе учат??! – Благословляю того, кто изобрел глобус (наверное какой-нибудь старик с длинной белой бородой...) – за то, что я могу сразу этими двумя руками обнять весь земной шар – со всеми моими любимыми!
«....Ни кто – часы...»
Однажды она у меня на столе играла песочными часами, детскими пятиминутными: стеклянная стопочка в деревянных жердочках с перехватом-талией – и вот, сквозь эту «талию» – тончайшей струечкой – песок – в пятиминутный срок.