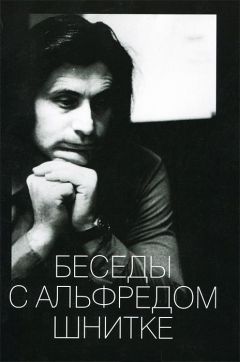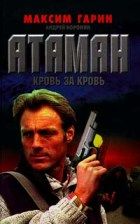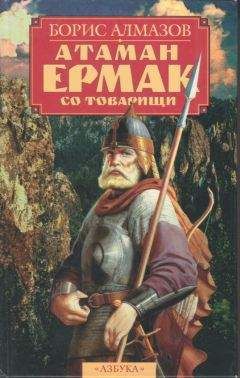Александр Туркин - Ходатель
Стояла в полях торжественная тишина.
И пурга намаялась за ночь. Бледная и волнистая, как женщина с тихим плачем, перед утром она ушла в глубину безжизненных равнин и спрятала в межах и перелесках разодранные снежные ткани. Увела, властная, за собой ветры, наметала на пути белые курганы и, сжатая тихой грустью, оглянулась назад и растаяла, как мечта, с жалобным, звенящим криком, в рассвете пугливого утра зимы…
Антип торопил лошадь, временами дружелюбно разговаривал с затихшей телкой и посматривал по сторонам. Летел через тихие снежные поля черный ворон и хрипло, задушенно каркал. Что-то мертвое и вещее несла с собой черная птица, и Антип, с странно тосковавшим сердцем, следил за ней до тех пор, пока не слилась она с мутной гранью горизонта. Может, сядет где-нибудь в роще, на тихом погосте, где едва маячат засыпанные могилы, и будет хрипло кричать о том, что на земле идет все та же мертвая, голодная жизнь, люди бьются, хрипят бессильно, и солнце не может сжечь ненавистный мрак… Что любо ему, черному ворону, одиноко и веще летать по равнинам, хрипло каркать у могил и резать упругий мрак смелым и сильным крылом…
До города считалось двадцать верст, и Антип торопился, чтобы сделать обдуманное: продать телку и сходить в уездный съезд. Гнедко точно понимал настроение хозяина и спешно ковылял разбитыми, наезженными ногами, стараясь не доводить до кнута. Замечая движение Антипа, лошадь встряхивала головой и наддавала ходу, а в хороших, торных местах прыгала тяжелым, неуклюжим галопом. Телка лежала смирно, пыталась даже лизать хозяина, и грустно-покорно смотрели ее темносиние глаза.
В город Антип приехал к десяти часам утра и, не заезжая на постоялый двор, направился к скотному базару.
Здесь торчали большие, краснолицые, здоровые мясники и покупали дешевый скот.
Бегло осмотрели телку Антипа, спросили цену и, точно сговорясь, заржали:
— Ха-ха! Пятнадцать рублей!
— Го-го… Ты в уме, мужик?
— Твою телку полгода надо кормить, чтобы зарезать на мясо…
— Обнимись с ней.
— Получай пятитку, да и то богу помолись за нас.
Антип стоял на месте и сконфуженно скреб в затылке. И, точно оправдываясь, сказал наивно:
— Она — с теленочком… С Николая Иваныча быком взялась…
Опять звучно заржали:
— Хоть с Марьи Ивановны быком — нам что.
— Го-го. Чудак…
— Он, братцы, из вятских.
— Это видно.
— Наверно, из тех, что в трех соснах заблудились?
— И корову на баню садили. Гы-гы.
Долго торговался Антип. До боли хлопали у него по рукам и в конце концов продал телку за восемь рублей. Что-то слепило глаза, когда брал деньги за родное, близкое простой мужичьей душе… Поехал от мясников, не оглядываясь, купил два пуда муки, чаю, сахару и пряников Аниське на пятак. Заехал на знакомый постоялый двор, напился наскоро чаю и пошел пешком искать уездный съезд. Шел, и в памяти ярко чеканились слова мирян:
— Прямо за глотку бери.
— Скоро, мол, подохнем.
Странно приподнятый этим, чувствовал, что ему поручили большую, важную роль, которую необходимо выполнить добросовестно. И охваченный этим сознанием, бодро и уверенно шел в уездный съезд, где должны непременно понять его…
Но уже у крыльца, где толпился народ, у Антипа сразу упала душа… Старый вековой враг — нелепый страх — язвительно стучался в душу и царапал ее когтями, как черная, мохнатая кошка… И точно шептал язвительно, что дитя рабских веков, прожженных одним страданием, не может быть сильным и смелым.
В здании уездного съезда Антип долго бродил по коридорам и робко заглядывал в двери «отделений». Но там все очерчивалось, как в тумане, чужие, равнодушные лица, скрипели перья, или металлически-холодно стучали пишущие машины, точно давая понять, что здесь нет места никаким просьбам и словам. Что здесь, в серо-линялой атмосфере, где поблескивали форменные пуговицы, живет одно деловое, бумажное, скрипучее и ритмичное, как маятник.
После долгого, томительного ожидания и хлопот Антипу удалось добраться до секретаря съезда, который сидел в старом, потертом кресле и курил дешевую сигару. Курил, сипло кашлял и таращил при этом большие выпуклые глаза с кровяными жилками на белках.
Взглянул на Антипа безразлично и спросил:
— Что тебе?
Хотелось начать сильно, убежденно и горячо, хотелось мучительно-страстно чем-нибудь огненным очертить нужды «мирян», идущего зверя — голод, отчаяние заброшенных в степи людей, но… болтался, как тряпка, бессильно язык, и тоненько закапали малозначащие пугливые слова.
— Явите божескую милость… Ходатель я… Потому, значит, доверие дадено мне… От общества, значит…
Подал «доверие» секретарю. Тот пробежал и усмехнулся. Погладил бороду справа, потом — слева. И все его серое, полинялое лицо, отцветшие пуговицы на старом сюртуке — все говорило о том, что человек сидит страшно далеко от настоящей жизни.
— Разночинцы… гм… — сипло проговорил секретарь. — Ничего нельзя сделать.
— Явите божескую милость.
— Ничего. Насчет разночинцев в уездном съезде нет циркулярного предписания. Мы кормим только своих крестьян.
— Общество тоже ись хочет, ваше благородие…
Секретарь пыхнул сигарой и сказал строго:
— Какое у вас «общество»? Ни старшины, ни старосты… Разночинцы вы — и больше никаких. Иди.
— Как теперь?
— Как угодно. Пишите губернатору: велит кормить — будем… Возьми свое доверие и иди.
Антип взял бумагу и тихо побрел из комнаты. Хотелось завыть волком или броситься и душить кого-нибудь… Но старый вековой враг — черная, подлая кошка сидела внутри и царапала когтями душу…
Вышел из уездного съезда и бессильно остановился на одном месте. Недалеко стоял плечистый малый, с цыганским лицом, и крутил цыгарку. Антип подошел к нему и спросил:
— Не знаешь ли, почтенный, человека?
— Какого?
— Прошенье губернатору написать… От общества, значит…
— Знаю: Иван Федосеич тут есть. К самому царю может написать.
— Нельзя ли до его милости меня направить?
— Можно за сотку…
— За каку таку сотку?
Малый затянулся из цыгарки и ответил:
— Сотка-то? Это — маленькая такая бутылочка: булькнул из нее раз-два, и готово. Всего одиннадцать копеек стоит…
Антип понял, усмехнулся и достал узелок, где хранилась «общественная» сумма. Бережно отсчитал одиннадцать копеек и подал малому. Тот живо схватил и весело гаркнул:
— Идем к Ивану Федосеичу…
Пошли. Долго ныряли по окраинным улицам города. На пути малый забежал в казенку, ловко вышиб пробку из маленькой бутылки, выпил водку единым духом и грустно сказал Антипу:
— Вот и все.
Пришли, наконец, к избе, где жил Иван Федосеич. На гнилых покосившихся воротах висела большая железная доска, на черном фоне которой жирно и крупно было выведено белым:
«Всякие прошения соченяю»
И внизу добавлено помельче:
«Здеся же продается чернило»
Малый уверенно отворил ворота и так же уверенно вошел в сени, отворил двери, заглянул в комнату и бросил Антипу:
— Они у себя: иди.
Антип снял шапку еще в сенях и вошел за малым, который тотчас же сел на стул и начал вертеть цыгарку, чувствуя себя отлично. Посредине комнаты стоял сам Иван Федосеич — совершенно лысый человек, лет тридцати, с узким шишковатым лбом, с крошечными, точно просверленными глазками и с подвязанной щекой, за которую он часто хватался и делал болезненные гримасы. Правая нога его, странно скрюченная, почти волочилась по земле. От этого Иван Федосеич не ходил, а ковылял, как утка, и весь он, сгорбленный и бесцветный, напоминал старую поломанную развинченную куклу…
Антип начал рассказывать про свое дело. Иван Федосеич слушал, болезненно морщился и смотрел куда-то в сторону мутными глазками. Когда Антип кончил, Иван Федосеич посмотрел на малого, сидевшего на стуле, показал на голову и сказал:
— Болит.
Малый сочувственно качнул головой и ответил выразительно:
— Поправить надо.
Антип не понимал, в чем дело, и спросил наивно:
— Хвораете, значит, господин хозяин?
Иван Федосеич грустно посмотрел на него и ответил:
— Хвораю по своему желанию, деньгу добываю…
Антип удивился и поднял брови. Иван Федосеич ковыльнул по комнате и продолжал:
— Хорошо иногда попадает. Вот в прошлом году купец Морозов, пьяный, с полчаса бил меня биллиардным кием… Натешился и говорит: «Ну, бери двадцать пять рублей». Нет, говорю, голубчик. Подаю на него на другой день в суд по статье сто тридцать пятой устава о наказаниях. Получил он повестку — ко мне. Прямо на паре вороных прикатил и молит: «Брось, Федосеич, возьми 50 рублей и прекрати дело». Нет, говорю, мало, давай радужную… И отдал.
— А вчера, значит, тоже было? — спросил малый.
— Было, Аверьян Карпыч два раза по скулам хватил. Ну… тоже дешево не отделается, а давал уже четвертной билет. Шалишь: сегодня прошеньице на него приготовил — меньше сотни не сдамся на мировую.