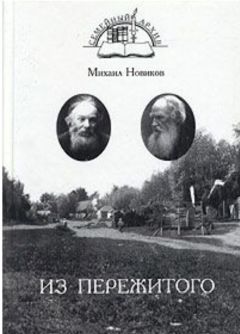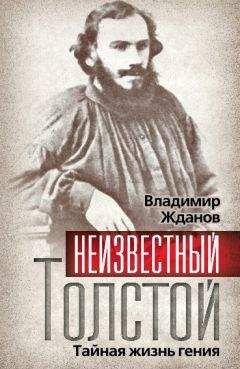Лев Толстой - За что
Мигурский тоже только теперь узнал Альбину, и в Альбине в первый раз узнал женщину. По тем женщинам, которых он знал до женитьбы, он не мог знать женщин. И то, что он узнал в Альбине, как в женщине вообще, удивило его и скорее могло бы разочаровать его в женщине вообще, если бы он не чувствовал к Альбине, как к Альбине, особенно нежного и благодарного чувства. К Альбине, как к женщине вообще, он чувствовал ласковое, несколько ироническое снисхождение, к Альбине же, как к Альбине, не только нежную любовь, но и восхищение, и сознание неоплатного долга за ее жертву, давшую ему незаслуженное счастье.
Мигурские были счастливы тем, что, направив всю силу своей любви друг на друга, они испытывали среди чужих людей чувство двух заблудившихся зимой, замерзающих и отогревающих друг друга. Радостной жизни Мигурских содействовало и участие в их жизни рабски, самоотверженно преданной своей панюсе, добродушно-ворчливой, комической, влюбляющейся во всех мужчин, няни Лудвики. Мигурские были счастливы и детьми. Через год родился мальчик. Через полтора года - девочка. Мальчик был повторением матери: те же глаза и та же резвость и грация. Девочка была здоровый красивый зверок.
Несчастливы же Мигурские были удалением от родины и, главное, тяжестью своего непривычно униженного положения. Особенно страдала за это унижение Альбина. Он, ее Юзё, герой, идеал человека, должен был вытягиваться перед всяким офицером, делать ружейные приемы, ходить в караул и безропотно повиноваться.
Кроме того, известия из Польши получались самые печальные. Почти все близкие родные, друзья были или сосланы, или, лишившись всего, бежали за границу. Для самих же Мигурских не предвиделось какого-либо конца этому положению. Все попытки ходатайство 1000 вать о прощении или хотя бы об улучшении положения, о производстве в офицеры, не достигали цели. Николай Павлович делал смотры, парады, учения, ходил по маскарадам, заигрывал с масками, скакал без надобности по России из Чугуева в Новороссийск, Петербург и Москву, пугая народ и загоняя лошадей, и когда какой-нибудь смельчак решался просить смягчения участи ссыльных декабристов или поляков, страдавших из-за той самой любви к отечеству, которая им же восхвалялась, он, выпячивая грудь, останавливал на чем попало свои оловянные глаза и говорил: "Пускай служат. Рано". Как будто он знал, когда будет не рано, а когда будет время. И все приближенные: генералы, камергеры и их жены, кормившиеся около него, умилялись перед необычайной прозорливостью и мудростью этого великого человека.
В общем, все-таки в жизни Мигурских было больше счастья, чем несчастья.
Так прожили они пять лет. Но вдруг обрушилось на них неожиданное, страшное горе. Заболела сначала девочка, через два дня заболел мальчик: горел три дня и, без помощи врачей (никого нельзя было найти), на четвертый день умер. Через два дня после него умерла и девочка.
Альбина не утопилась в Урале только потому, что не могла без ужаса представить себе положения мужа при известии об ее самоубийстве. Но жить ей было трудно. Всегда прежде деятельная и заботливая, она теперь, предоставив все свои заботы Лудвике, сидела часами без дела, молча глядя на то, что попадалось под глаза, а то вдруг вскакивала и убегала в свою каморку и там, не отвечая на утешения мужа и Лудвики, тихо плакала, только качая головой, прося их уйти и оставить ее одну. Летом она уходила на могилу детей и там сидела, раздирая себе сердце воспоминаниями о том, что было и что могло бы быть. Особенно мучила ее мысль о том, что дети могли бы остаться живы, если бы они жили в городе, где могла бы быть подана медицинская помощь. "За что? За что? думала она. - И Юзё и я - мы ничего ни от кого не хотим, кроме того, чтоб ему жить так, как он родился и жили его деды и прадеды, а мне только - чтобы жить с ним, любить его, любить моих крошек, воспитывать их. И вдруг его мучают, ссылают, а у меня отнимают то, что мне дороже света. Зачем? За что?" задавала она этот вопрос людям и богу. И не могла представить себе возможности какого-нибудь ответа.
А без этого ответа не было жизни. И жизнь ее остановилась. Бедная жизнь в изгнании, которую она прежде умела украшать своим женским вкусом и изяществом, стала теперь невыносима не только ей, но и Мигурскому, страдавшему за нее в не знавшему, чем помочь ей.
VII
В это самое тяжелое для Мигурских время прибыл в Уральск поляк Росоловский, замешанный в грандиозном плане возмущения и побега, устроенного в то время в Сибири сосланным ксендзом Сироцинским.
Росоловский, так же как и Мигурский, так же как и тысячи людей, наказанных ссылкою в Сибирь за то, что они хотели быть тем, чем родились, - поляками, был замешан в этом деле, наказан за это розгами и отдан в солдаты в тот же батальон, где был Мигурский. Росоловский, бывший учитель математики, был длинный, сутуловатый, худой человек с впалыми щеками и нахмуренным лбом.
В первый же вечер своего пребывания Росоловский, сидя за чаем у Мигурских, стал, естественно, рассказывать своим медленным, спокойным басом про то дело, за которое он так жестоко пострадал. Дело состояло в том, что Сироцинский организовал по всей Сибири тайное общество, цель которого состояла в том, чтобы с помощью поляков, зачисленных в казачьи и линейные полки, взбунтовать солдат и каторжных, поднять поселенцев, захватить в Омске артиллерию и всех освободить.
- Да разве это было возможно? - спросил Мигурский.
- Очень возможно, все было готово, - сказал Росоловский, мрачно хмурясь, и медленно, спокойно рассказал весь план освобождения и все принятые меры для успеха дела и, в случае неуспеха, для спасения заговорщиков. Успех был верный, если бы не изменили два злодея. Сироцинск 1000 ий, по словам Росоловского, был человек гениальный и великой душевной силы. Он и умер героем и мучеником. И Росоловский ровным, спокойным басом стал рассказывать подробности казни, на которой он, по приказанию начальства, должен был присутствовать вместе со всеми судившимися по этому делу.
- Два батальона солдат стояли в два ряда, длинной улицей, у каждого солдата в руке была гибкая палка такой высочайше утвержденной толщины, чтобы три только могли входить в дуло ружья. Первым повели доктора Шакальского. Два солдата вели его, а те, которые были с палками, били его по оголенной спине, когда он равнялся с ними. Я видел это только тогда, когда он подходил к тому месту, где я стоял. То я слышал только дробь барабана, но потом, когда становился слышен свист палок и звук ударов по телу, я знал, что он подходит. И я видел, как его тянули за ружья солдаты, и он шел, вздрагивая и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону. И раз, когда его проводили мимо нас, я слышал, как русский врач говорил солдатам: "Не бейте больно, пожалейте". Но они всё били; когда его провели мимо меня второй раз, он уже не шел сам, а его тащили. Страшно было смотреть на его спину. Я зажмурился. Он упал, и его унесли. Потом повели второго. Потом третьего, потом четвертого. Все падали, всех уносили - одних замертво, других еле живыми, и мы всё должны были стоять и смотреть. Продолжалось это шесть часов - от раннего утра и до двух часов пополудни. Последнего повели самого Сироцинского. Я давно не видал его и не узнал бы, так он постарел. Все в морщинах бритое лицо его было бледно-зеленоватое. Тело обнаженное было худое, желтое, ребра торчали над втянутым животом. Он шел так же, как и все, при каждом ударе вздрагивая и вздергивая голову, но не стонал и громко читал молитву: Miserere mei Deus secundam magnam misericordiam tuam [Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей (лат.)].
- Я сам слышал, - быстро прохрипел Росоловский и, закрыв рот, засопел носом.
Лудвика, сидевшая у окна, рыдала, закрыв лицо платком.
- И охота вам расписывать! Звери - звери и есть! - вскрикнул Мигурский и, бросив трубку, вскочил со стула и быстрыми шагами ушел в темную спальню. Альбина сидела как окаменевшая, уставив глаза в темный угол.
VIII
На другой день Мигурский, придя домой с ученья, был удивлен видом жены, которая, как в старину, легкими шагами, с сияющим лицом встретила его и повела в спальню.
- Ну, Юзё, слушай.
- Слушаю. Что?
- Я всю ночь думала о том, что рассказал Росоловский. И я решилась: я не могу жить так, не могу жить тут. Не могу! Я умру, но не останусь здесь.
- Да что же делать?
- Бежать.
- Бежать? Как?
- Я все обдумала. Слушай.
И она рассказала ему тот план, который она придумала сегодня ночью. План был такой: он, Мигурский, уйдет из дома вечером и оставит на берегу Урала свою шинель и на шинели письмо, в котором напишет, что лишает себя жизни. Поймут, что он утопился. Будут искать тело, будут посылать бумаги. А он спрячется. Она так спрячет его, что никто не найдет. Можно будет прожить так хоть месяц. А когда все уляжется, они убегут.
Затея ее в первую минуту показалась Мигурскому неисполнимой, но к концу дня, когда она с такой страстью и уверенностью убеждала его, он стал соглашаться с нею. Кроме того, он был склонен согласиться еще и потому, что наказание за неудавшийся побег, такое же наказание, как то, про которое рассказывал Росоловский, падало на него, Мигурского, успех же освобождал ее, а он видел, как после смерти детей тяжела ей была жизнь здесь.