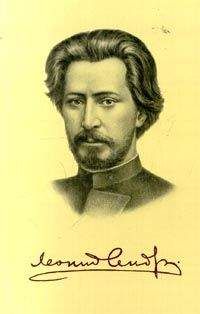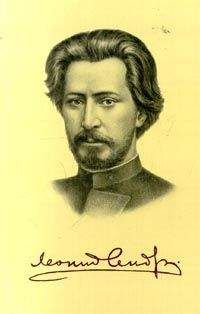Леонид Андреев - Жертва
— Есть, Таичка!..
— Оставьте, пожалуйста. Из-за вас папа казенные деньги растратил и всю жизнь был мучеником, из-за вас и я отравлюсь. А вам что? Только бы пасьянса у вас не отняли… Ах, ну и дрянь же ты, старая дрянь. Кокотка!
Последнего слова еще ни разу не произносила Таисия, и оно остановило ее; и в молчании сильнее зашумел ветер в волосах: платок уже давно соскочил с головы Елены Дмитриевны. Но, подумав, Таисия настойчиво повторила:
— Ну да, кокотка, конечно. Содержанка. У них тоже такие руки, как у вас. Да если бы вы только могли почувствовать, как я вас ненавижу!
— Я чувствую, Таичка!
— Врете, куда вам. Вот умру, тогда почувствуете, да поздно будет.
— Я постараюсь, — сказала Елена Дмитриевна.
— Что постараетесь?..
— Я постараюсь… Что же мне еще сказать, Таичка?
Таисия засмеялась и, смеясь все громче и зачем-то вскинув обе руки, пошла вдоль берега, против ветра.
— Куда ты?
Она все смеялась и шла и все выше закидывала руки; потом упала лицом вниз и, хохоча и плача, стала грызть себе пальцы, вырывать космы волос, разрывать одежды на груди — новенькую блузочку, сегодня впервые надетую. А Елена Дмитриевна беспомощно стояла над нею и, тоже зачем-то подняв обе руки, беззвучно рыдала в себя, в глубину груди, где тяжко ворочалось, не справляясь с работой, старое ожиревшее сердце.
— Хочешь, я утоплюсь? — спрашивала она Таисию, но или тих был ее голос, или море заглушало его своим шумом: Таисия не отвечала и, перестав биться, лежала как мертвая. Это темное пятно на песке; это маленькое одинокое тело, мимо которого своим чередом, не замечая его, проходили и ночь, и широкая буря, и грохот далеких волн, — было ее дочерью, Таисией, Таичкой.
Громко вскрикнув от укусившей тоски, точно копируя все движения и поступки дочери, Елена Дмитриевна засмеялась, подняла обе руки и пошла вдоль берега, против ветра; все шире открывались навстречу подвижной тьме ее голубые, величественные, безумные глаза. Вероятно, в эти минуты она сошла с ума, потому что громко начала вызывать из тьмы:
— Полковник! Яков Сергеич!
IV
Недостаток Елены Дмитриевны был в том, что она совершенно не умела думать и даже не знала, как это делается другими. Говоря, она никогда не знала вперед, что скажет; умолкая же — либо задремывала с открытыми глазами и величественным видом, либо продолжала в голове плетение беззвучных слов, не имеющих ни начала, ни конца. Оттого она и пасьянс так любила.
И теперь ей было очень трудно: понадобилось удержать в голове новую мысль, и не только удержать, не дать ей выскользнуть во время сна, но даже и развить ее до каких-то сложных и значительных последствий. Явилась эта мысль случайно, как будто на вокзале, когда в ожидании билета у кассы она прочла страховое объявление — приглашение пассажиров страховаться на случай железнодорожного несчастья.
«Вот если бы я застраховалась в десять тысяч, — сказала она себе, так как умела не думать, а только говорить себе, — и потом упала бы с поезда, то моя несчастная Таичка получила бы десять тысяч и стала бы счастливою с Мишелем».
Сказав это себе, она тотчас же хотела по обычаю забыть сказанное, но почему-то оно не забылось и еще два раза вспомнилось в вагоне. Даже пришли в голову некоторые новые подробности: именно, что Мишель и Таичка могут тогда съездить в Биарриц, где она может указать им хороший недорогой пансион с видом на океан.
«Но самоубийцам, вероятно, не платят», — сказала она себе дальше и стала искать, кого бы об этом спросить. Но в третьем классе, где она ехала, были только финские мужики и дешевые дачники; и она перешла в первый и с удовольствием опустилась на зеленый потертый бархат сиденья. Против нее, в том же купе, читал газету пожилой полковник, почтительно принявший длинные ноги, когда она садилась. Улыбнувшись и поблагодарив полковника, Елена Дмитриевна с видом знатной дамы, привыкшей иметь свиту, спокойно и просто обратилась к нему с французской фразой, но он не знал французского и густо покраснел, извиняясь. Тогда с тем же спокойствием она по-русски спросила о самоубийцах, платят ли им?
Кажется, он ответил, что не платят, — она забыла, вернувшись домой; да и самую мысль позабыла, пока не приехала поздно вечером усталая и немая Таисия.
— Вот, Таичка, деньги за пенсионную книжку, — сказала Елена Дмитриевна и с некоторой гордостью подала дочери деньги, — это были единственные минуты за месяц, когда она чувствовала себя полковницей, у которой полон двор послушной и влюбленной челяди. И до сих пор Таисия каждый раз благодарила и даже целовала руку, хотя и сухо, по привычке; но теперь — все так же молча, не меняя выражения каменного лица, взяла и бросила деньги на пол.
— Таисия! — воскликнула мать, но, увидев сумасшедшие глаза Таисии, не посмела продолжать. Не посмела она поднять и деньги, так как Таисия нарочно ходила по бумажкам и по мелочи и даже напевала что-то, будто не замечая ни матери, ни ее денег. Так они и пролежали на полу до минуты, когда обе женщины ложились спать. «Ночью поднимет», — подумала Елена Дмитриевна, но и ночью, когда она вставала, и утром деньги продолжали валяться на полу. Со слезами собрав их, Елена Дмитриевна положила на стол — и со стола снова на пол сбросила их Таисия. И, завиваясь перед маленьким зеркальцем, будто с беззаботностью мурлыча и кося глазами, чтобы увидеть в зеркале свои бледные уши, Таисия захохотала и спросила:
— Это ваши тридцать серебреников?
— Так-таки и не возьмешь, Таичка?
— Ваши тридцать серебреников? Ах, пожалуйста, пусть полежат на полу ваши тридцать серебреников.
— Таисия!..
Но опять встретила сумасшедшие глаза Таисии и не посмела продолжать. Так Таисия и не взяла денег, так и уехала в город, и больно было подумать, как она теперь будет вертеться со своими грошами; и еще ничто в жизни так не жгло рук Елены Дмитриевны, как эти деньги, эти тридцать серебреников, когда она запирала их в свой комод — на что они ей-то? На другой день все-таки робко спросила дочь:
— Как же ты теперь, Таичка, без денег?..
— Как? Очень просто. Я теперь не завтракаю. И чаю пью одну чашку. А что? Жгутся серебреники?
Она действительно не завтракала, и ненависть горела в ней: было страшно за ее впалую грудь, где вмещалось столько безысходной злобы, себя самое кусающей. А еще через день и потом уже каждое утро Таисия сама спрашивала мать:
— Ну, что же? Целы ваши тридцать серебреников?
— Целы, Таичка.
— Ах, целы? Ну, берегите, берегите ваши тридцать серебреников! — и хохотала, вертя перед зеркалом свое желтое лицо с присохшими к деснам губами. Что-то обезьянье появилось в ней, вертлявое, нервно-раздраженное, остромигающее; и подбородок выдвинулся от худобы тупо и зло, и приподнялись костлявые плечи. Из окна комнаты видна была лесистая дорога на станцию, и, как очарованная, не сводила глаз Елена Дмитриевна с удалявшейся дочери, с ее несчастной и непримиримой спины. Уже точкой становилась эта спина в отдалении, а все грозила и влекла к себе взоры.
Так проходили дни и недели, и все не брала денег Таисия, и стали эти деньги чем-то вроде колдовства, частицею нечистой силы, попавшей в дом: никуда от них нельзя было спрятаться, целый день колдовали они над головою Елены Дмитриевны, сидели в ее мыслях. К ящику комода, где они лежали, стыдно и страшно было подойти, как убийце, хотелось спрятать их под тюфяк или зарыть в землю. А тут пропал и Михаил Михайлович: потом оказалось, что он ездил по поручению банка в провинцию, но Елена Дмитриевна этого не знала. Таисии спросить не осмеливалась и мучилась страшными догадками: что-то вроде настоящих длинных мыслей появилось у нее. Точнее, это была одна мысль, внушенная ей страховым объявлением, но такая длинная, словно клубок, медленно распускающийся.
Наконец и во сне увидела Елена Дмитриевна свои тридцать серебреников, — эти ненужные, злые и страшные деньги. Сон был страшный, и старуха стонала, металась по постели, задыхаясь и плача, пока гневным толчком не разбудила ее Таисия.
— Что же это такое! — плакала от злости и горя Таисия, — куда мне от тебя деваться? Богом клянусь, я больше не могу!
— Таичка!..
— Я человек работающий, я не могу без сна, а ты храпишь, как мопс — как вам не стыдно, и где у вас совесть? Что же это! Я и не ем, и не сплю: хотите, чтобы я сейчас же яду приняла? Я человек работающий, я и жизни не видела за работой… куда мне деваться? Куда?
— Мне сон страшный приснился, я не виновата, я больше не буду.
— Врете вы! Сон — какие у вас сны! Нажралась за ужином, вот и храпит… Ах, куда же мне деваться от тебя!
Укрылась с головою одеялом и долго еще и горько плакала, пока не затихла. А мать, боясь возвращения сна и что снова она разбудит Таисию стонами, долго лежала с открытыми глазами; потом, борясь с набегающей дремой, села на кровати и до утра вздрагивала и никла головой, на которой пышные волосы вздымались, как старинный придворный парик.