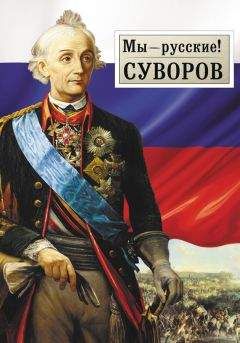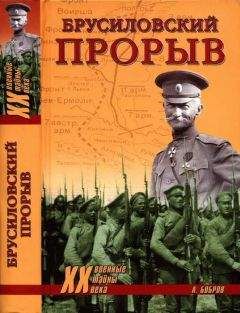Федор Крюков - Офицерша
И замирало сердце от ужаса и отчаяния. Гвоздем сидела в голове мысль неотвязная о грядущем позоре неминучем, непереносном. Спать разучилась, на ум еда не шла. Душили кошмары по ночам: черное небо валилось на голову, в бездонный темный погреб падала стремглав, косматые старухи беззубыми ртами шамкали, ругая ее, пальцами показывали, издевались… Проснется в холодном поту, — бьется подстреленной птицей сердце: позор, неминучий позор, стыд и бездонное горе будущее встают перед ней в темноте — страшней геенны огненной…
Услыхала еще: сулема помогает. Надо попытать. Только в лавку страшно идти: догадаются, на что сулема нужна. У матери поискать, — у матери была сулема прежде, притирание для лица делала мать из сулемы с салом, — чтобы лицо моложе и свежей было.
Пошла к матери. Праздник выбрала, когда ребята на улицу ушли, — у отца семья большая, пять сыновей, — все моложе Варвары. Дождалась, когда мать вышла, стала лазить по полкам и в сундуке. Нашла несколько узелков, — в каком квасцы, в каком синька, в каком семена, — много разных разностей, сулемы лишь нет. Увлеклась поисками, не слыхала, как мать вошла.
— Ты чего ищешь?
Смутилась, смешалась. Соврать не могла.
— Сулемы бы мне надо… чуточку… Догадалась мать сразу. Спросила:
— Ты чижолая?
— Что ты… с чего это?.. Мне жировку[2] сделать… Марья просила…
— Брешешь! Я не вижу, что ль…
Стала божиться Варвара, но избегает пристального, понимающего взгляда матери, не смотрит в глаза ей.
— Ну, сукина дочь! теперь отец узнает, — убьет! Страму какого… а!.. Так убьет и убьет!.. Как теперь зятя встречать будет? На всю родню порок!..
Сухое лицо матери, когда-то красивое, ясное такое, веселое, теперь — потемневшее, утомленное, с резкими морщинами между бровями, состарившими ее вечно озабоченным выражением, — стало вдруг чужим и безжалостным. Злобно перекосились сжатые губы, враждой загорелись глаза. Вот-вот размахнется, бить начнет, как, бывало, в прежние годы, когда детвора опостылеет ей неотвязным криком своим и, охваченная вдруг приливом бешеной злобы, с искаженным лицом, накинется она на них и начнет водворять порядок звонкими, очень больными шлепками, ругаясь самыми жесткими словами.
— Да чего ты, мама!.. Мама!.. Зачем ты говоришь такое…
— А я не вижу? Это кому хошь очки вставляй, а я уж давно дубочки стою… смыслю…
Сознаться бы ей: пусть выругает, побьет, но она — мать, она и отойдет, пожалеет… Но недостало духу правду открыть: завоет мать, причитать начнет, — еще чужой кто услышит, и сраму преждевременно наделают. Перемолчала.
— Ну, как ты там сшивала, так сама и расшивай, сукина дочь! — кричит мать, — сердце ее чует уже недоброе, но все еще не верит себе и пугает угрозой, единым средством материнским. — Я в эти дела не стану входить!., как хошь! сама добыла, сама избывай!..
Видно, надо самой изворачиваться. Одной, с своей подушкой, думу думать, беду оплакивать. А может, Бог чудо пошлет: доброго человека, который знает все… Ведь не одна же она грешила на белом свете, — спокон веку так водится, нет безгрешных. Спросить у старых жалмерок… Они отгуляли свою волю, знают, не осудят… Может быть, помогут чем…
Был последний праздник весны — Троица. Последняя улица весенняя, хороводы, кулачные бои. С праздников в работу вступят люди — покос подошел, — и тогда не до игры, не до улицы…
В эти дни, бывало, до упаду веселилась она, с улицы не шла, до белой зари песни пела в хороводе, слушала речи любовные. А ныне веселье на ум нейдет…
Вон идет гурьбами молодежь за станицу, в степь, где шумит-кипит уже кулачный бой, звенят хороводные песни. Идут казаки, ребятишки, девчата, бабы. Все с веселым гутором и смехом спешат, беззаботные, счастливые, нарядные. А она вот одна, сиротой печальной, стоит у ворот…
— Ну, ты чего же стоишь, офицерша? честь закупаешь?
Голос бойкий, веселый… Весело крупные, ровные зубы оскалены, и несокрушимой удалью веет от стройной и сильной фигуры. Вот она — старая жалмерка, уже отгулявшая свою волю. Крупны и грубоваты черты скуластого лица, но была особенная тайна привлекательности в смелом взгляде узких черных глаз, и много сердец полонили они… Громко и бедово пожила Надорка Копылова…
— Ешь, пока живот свеж!.. Гуляй, пока можно. Прозеваешь, после тужить будешь. Пойдем!
У нее ребенок на руках, но дома все-таки не сидится, на улицу тянет, на народ, вспоминается веселая жизнь вольная. Теперь уж не то, а все-таки…
— Идет какой-нибудь мимо молодчик, толкает, моргает: «пойдем»… Эх, кабы не дите, разве упустила бы свое. Дите связало по рукам…
— А муж?
— У-у, муж! Мужа-то я вокруг пальца оберну!.. В гульбе уж как хошь, не утерплю, обману: кто понравится, с тем и иду… Муж… эка!.. Когда и я его наземь кину…
Звонко расхохотались обе, — был заразительно весел этот взгляд беззаботно-удалый, и на мгновение забыла Варвара о своем горе.
— Муж… Есть чего бояться! Мой из полка писал, грозил: «Не перенесет моя казачья кровь обиды, приду — жизнь порешу неверной жене!..» А пришел — и вот, живем покуда…
— Ну, а плетка-то походила по телу? — спросила, смеясь, Варвара.
— Н-ну!.. все считать, так и барыш с накладом выйдет… Плетка дело терпимое. Бил сукин сын. Все тело в синяках было, суставчики и кости ныли… Ну, да бей не бей, а трехлетнюю волюшку не выбьешь. До гробовой доски ее не забуду — пожила! С милыми да в охотку…
И опять они засмеялись звонким заливистым смехом. Потом Варвара осторожно спросила:
— Как же ты, Надора, — ударная ты такая была, — обродиться не боялась?
Надорка бросила на нее быстрый, удивленный взгляд:
— Вот! А Ильинишна-то на что? За три рубля на три года сделает… Слово знает.
— Какая Ильинишна?
— Небось не знаешь? У, да Федота Хромцова старуха! Вон там, в кутке живут, за гумнами. Небось была не раз?
— Нет. Боюсь я их, кабы не погубиться, — сказала Варвара, радуясь, что открыла наконец того всезнающего человека, который беде ее может помочь.
— Да уж бойся не бойся, а их не миновать. Привьется по ошибке, — к бабке, больше некуда, — нехай бабчит… Такое дело… А уж Ильинишна по этому делу — молоток…
— Боюсь я их, рубаха аж трусится, — повторила Варвара, крутя головой и чувствуя, как камень, давивший на сердце, как будто отваливается и дает вздохнуть посвободней.
Веселыми косяками нагоняла их молодежь, и доносился с степи широкий шум праздничного вечера, многоголосые звуки боя, и свист, и смех, и песня. Крылось непобедимое обаяние для них обеих в этом многолюдном движении и молодом шуме. Начиналась лихорадка смутного ожидания и радостного волнения, когда еще издали слышался этот глухо звенящий и плещущий говор, когда волнами перекатывались черные, серые, белые, в сумерках незнакомые фигуры и потому особенно любопытные… А голоса ясны и звонки, прозрачен вечерний воздух, и заря белеет на западе и бледны звезды вверху…
Тут, в веселой неустанной толкотне, колыханье, барахтанье, в крике веселом, в тесной близости, когда чужие руки с дерзкой вольностью как бы мимоходом охватывают шею и, в упор сближаясь, заглядывают в лицо веселые и наглые глаза, безусые и бородатые люди шепчут вздор знакомый и всегда приятный, — тут забывалось грызущее горе, и страх, и скучное благоразумие, — кружилась голова и один лишь голос звучал: «Хоть час, да мой!..»
Смеялась Варвара. И песни пела… Боролась и дралась, отбиваясь от бесцеремонных объятий казацких. Порой, мгновенным облаком, набегало раздумье, вспоминалась беда, висевшая над головой, но гнала она прочь черные мысли. Лишь когда Карпо Тиун, немножко растерзанный после общей жаркой схватки, без шапки, в разорванной у плеча рубахе, обнял ее и прижал к плетню, она точно спохватилась о том главном, что гвоздем все дни и ночи сидело в ее голове.
— Карпуша, милый! слухай сюда… Торопливо открыла ему свою беду.
Он стоял перед ней, чуть-чуть усмехаясь глазами, большой, сильный, желающий ее и явно равнодушный к ее страданию.
— Дело табак… Чего ж делать думаешь?
— Чего делать?.. Уж мне на воскресе не быть… Душиться — одно…
— Ну, гляди — не дреми! Время зря не теряй…
Он весело рассмеялся и обнял ее. Пахло водкой от него и невысохшим потом, и еще не улеглось в нем возбуждение недавнего риска и боя. Она оттолкнула его и заплакала.
— Ну, буде, буде… Небось тут люди, бесстыдница ты этакая! Ну!.. К бабке, что ль, пойдешь?..
— К бабке! — утираясь концом платка, сказала она с упреком. — К бабке идтить, три рубля надо… А где я возьму их?
— Э, не деньги нас наживали, а мы деньги! — воскликнул Карпо с широким жестом безоглядно тороватого человека. — Трех у меня не наберется, а два сорок в орла выиграл нынче. Сорок пропил, а два целы… на! жертвую! — великодушно произнес он, позвенев рублями в кармане. — На совесть сделаны, не думай: не фальшивые! Вот третий-то не знаю, где тебе добыть…