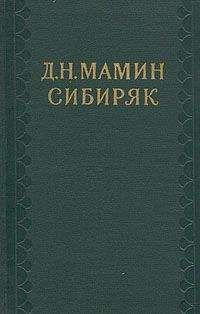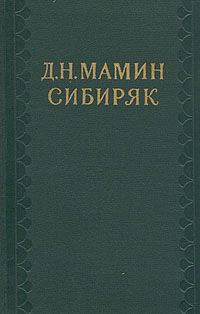Иван Шмелев - Том 6. История любовная
По всей вероятности, всего этого он больше не мог изображать. Он уже отдал дань горю, скорби, негодованию и отчаянию. Не зря Ильин поместил «Историю любовную» (непосредственно предшествовавшую «Солдатам») «как бы на грани, на водоразделе обеих групп»: темных и светлых произведений. Вслед за «Историей…» у Шмелева стали преобладать именно «светлые» произведения: «Богомолье», «Няня из Москвы», «Лето Господне», «Старый Валаам». Мы встретим лишь несколько небольших «темных» рассказов. Шмелев больше не мог и не хотел писать о Зле.
* * *В русской литературе мы найдем множество писателей, которые сильно, талантливо, полно изображали Зло: от Гоголя до Горького (не говоря уже о веке двадцатом). Активное, сильное, торжествующее Добро написать, по всей видимости, гораздо труднее.
И в этом смысле Шмелев – уникальный писатель. Ему удавался идеал. Удавалось Добро прекрасное, побеждающее. Причем удавалось с истинной художественной силой. Герои – сильные, благородные, добрые люди. Будь они простыми замоскворецкими мастеровыми, кучерами, плотниками, или купцами, или священнослужителями, или военными, как старый полковник из «Солдат», – все они ЖИВЫЕ, зримые, реальные. Или природа прекрасная – яблони в цвету, сирень благоуханная, весенние тополя. Каждая страница Шмелева расцветает перед нами в дивную картину. Картину гармонии, благодарения и благословения всего сущего.
Удавалось это Шмелеву потому, что он сам носил в душе искру того огня, который видел везде. И которым освещал все. Огонь этот – огонь веры. Сам он был в какой-то степени рыцарем, который «саблю обнажил» в борьбе со злом. Или солдатом, служащим России, чести, добру. Можно сказать, рыцарь, солдат. А можно и – ВОИН ХРИСТОВ.
Елена Осьминина
История любовная
I
Была весна, шестнадцатая в моей жизни, но для меня это была первая весна: прежние все смешались. Голубое сиянье в небе, за голыми еще тополями сада, сыплющееся сверканье капель, бульканье в обледенелых ямках, золотистые лужи на дворе с плещущимися утками, первая травка у забора, на которую смотришь-смотришь, проталинка в саду, радующая новым – черной землей и крестиками куриных лапок, – ослепительное блистанье стекол и трепетанье «зайчиков», радостный перезвон на Пасхе, красные-синие шары, тукающиеся друг о дружку на ветерке, сквозь тонкую кожицу которых видятся красные и синие деревья и множество солнц пылающих… – все смешалось в чудесном и звонком блеске.
А в эту весну все как будто остановилось и дало на себя глядеть, и сама весна заглянула в мои глаза. И я увидал и почувствовал всю ее, будто она моя, для меня одного такая. Для меня – голубые и золотые лужи, и плещется в них весна; и сквозистый снежок в саду, рассыпающийся на крупки, в бисер; и ласкающий нежный голос, от которого замирает сердце, призывающий кошечку в голубом бантике, отлучившуюся в наш садик; и светлая кофточка на галерее, волнующая своим мельканием, и воздух, необыкновенно легкий, с теплом и холодочком. Я впервые почувствовал – вот весна, и куда-то она зовет, и в ней чудесное для меня, и я – живу.
Необыкновенно свежи во мне запахи той весны – распускавшихся тополей, почек черной смородины, взрытой земли на клумбах и золотистых душков в тонкой стеклянной уточке, пахнувших монпансье, которые я украдкой, трепетно подарил на Пасхе нашей красивой Паше. Ветерок от ее накрахмаленного платья, белого с незабудками, и удивительно свежий запах, который приносила она с собою в комнаты со двора, – будто запах сырых орехов и крымских яблок, – крепко живут во мне. Помню весенний воздух, вливавшийся вечерами в окна, жемчужный ободок месяца, зацепившийся в тополях, небо, зеленовато-голубое, и звезды такие ясные, мерцающие счастьем. Помню тревожное ожидание чего-то, неизъяснимо радостного, и непонятную грусть, тоску…
На ослепительно-белом подоконнике золотая полоска солнца. За раскрытым окном – первые яркие листочки на тополях, остренькие и сочные. В комнату мягко веет свежей, душистой горечью. На раскрытой книге Тургенева – яркое радужное пятно от хрустального стакана с туго насованными подснежниками, густыми, синими. Праздничное сиянье льется от этого радостного пятна, от хрусталя и подснежников, и от этих двух слов на книге, таких для меня живых и чудесно-новых.
Я только что прочитал «Первую любовь».
После чудесного Жюля Верна, Эмара и романов Загоскина начало показалось неинтересным, и, не поспорь мои сестры – кому читать, и не скажи лохматый библиотекарь, прищурив глаз, – «ага, уж про „первую любовь“ хотите?», – я бы на первой странице бросил и взялся бы за «Скалу Чаек». Но эти два обстоятельства и удивительно нежный голос, призывавший недавно кошечку, так меня растревожили, что я дочитал до флигелька против Нескучного, – в наших местах как раз! – до высокой и стройной девушки в розовом платье с полосками, как она щелкала хлопунцами по лбу кавалеров, стоявших перед нею на коленях, – и тут меня подхватило и унесло…
Дочитав до конца без передышки, я как оглушенный ходил по нашему садику и словно искал чего-то. Было невыносимо скучно и ужасно чего-то стыдно. Садик, который я так любил, показался мне жалким-жалким, с драными яблоньками и прутиками малины, с кучками сора и навоза, по которым бродили куры. Какая бедность! Если бы поглядела Зинаида…
Там, где я только что побывал, тянулся старинный, вековой парк с благородными липами и кленами, как в Нескучном, сверкали оранжереи с ароматными персиками и шпанской вишней, прогуливались изящные молодые люди с тросточками, и почтенный лакей в перчатках важно разносил кушанья. И она, неуловимо прекрасная, легкая, как зефир, увлекала своей улыбкой…
Я смотрел на серые сараи и навесы с рыжими крышами, с убранными до зимы санями, на разбитые ящики и бочки в углу двора, на свою измызганную гимназическую курточку, и мне было до слез противно. Какая серость! На мостовой, за садом, старик-разносчик кричал любимое – «и-ех-и груш-ки-дульки варе-ны!..» – и от осипшего его крика было еще противней. Грушки-дульки! Хотелось совсем другого, чего-то необыкновенного, праздничного, как там, чего-то нового. Лучезарная Зинаида была со мной, выступала из прошлого сладкой грезой. Это она дремала в зеленоватой воде, за стеклами, в чем-то большом хрустальном, в бриллиантовой чешуе, в огнях, привлекала жемчужными руками, воздыхала атласной грудью, небывалая рыба-женщина, «чудо моря», на которую мы смотрели где-то. Это она блистала, летала под крышей цирка, звенела хрустальным платьем, посылала воздушные поцелуи – мне. Выпархивала в театре феей, скользила на носочках, дрожала ножкой, тянулась прекрасными руками. Теперь – выглядывала из-за забора в садик, мелькала в сумерках светлой тенью, нежно манила кошечку – «Мика, Мика!» – белелась на галерее кофточкой.
Милая!.. – призывал я в мечтах кого-то.
За обедом я думал о стареньком лакее во фраке и перчатках, который нес там тарелку с хребтом селедки, и мне казалось невероятным, чтобы чудесная Зинаида эту селедку ела. Это ее мать, конечно, похожая на молдаванку, обгладывала селедку, а ей подавали крылышко цыпленка и розанчики с вареньем. Я оглядывал стол и думал, что ей не понравилось бы у нас, показалось бы грязно, грубо; что Паша, хоть и красива, все же не так прилична, как почтенный лакей в перчатках, и квас, конечно, у них не ставят, а ланинскую воду. Вышитая бисером картина – «Свадьба Петра Великого»: в золотой раме, пожалуй бы, ей понравилась, но страшный диван в передней и надоевшие фуксии на окнах – ужасно неблагородно. А ящик с зеленым луком на подоконнике – ужас, ужас! Если бы Зинаида увидала, презрительно бы швырнула – лавочники!
Я старался себе представить, какое у ней лицо? Княжна, красавица… Тонкое, восковое, гордое? И оно выступало благородно-гордым, чуть-чуть высокомерным, как у Марии Вечера, с полумесяцем в волосах, которую я видел недавно в «Ниве»; то плутовато-милым, как у Паши, но только гораздо благородней; то – загадочно-интересным, неуловимым, как у соседки с удивительно нежным голосом.
За обедом я ел рассеянно. Мать сказала:
– Чего ты все мух считаешь?
– Заучились очень, екзаменты все учут… – вмешалась Паша.
Меня ужаснуло ее неблагородство, и я ответил:
– Во-первых, «екзаменты» не у-чут, а сдают! И… пора бы научиться по-человечески!..
– Какие человеки, подумаешь! – сгрубила Паша и стукнула мне тарелкой.
Все глупо засмеялись, и это меня озлило. Я сказал – голова болит! – вышел из-за стола, ушел в свою комнату и бухнулся головой в подушку. Хотелось плакать. «Боже, какая у нас грубость! – повторял я в тоске, вспоминая, как было там. – „Мух считаешь“, „екзаменты“… Ведь есть же люди, совсем другие… тонкие, благородные, нежные… а у нас только гадости! Там прислуге говорят – вы, лакей не вмешивается в разговор, приносит на серебряном блюде визитную карточку… – „Прикажете принять?“ – „Проси в гостиную!“ – Какая деликатность! Если бы совсем одному, на необитаемом острове где-нибудь… чтобы только одна благородная природа, дыхание безбрежного океана… и…»