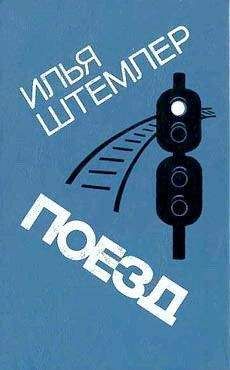Максим Горький - Скуки ради
- Это позволительно!.. - соглашается Николай Петрович, действуя ключом аппарата.
Он знает, что философ должен выражаться лаконически.
Им очень скоро представилась возможность посмеяться.
Как-то раз ночью Гомозов пришел к Арине на погреб, где она, по его приказанию и с разрешения начальницы, устроила себе постель среди различного хозяйственного хлама. Тут было сыро и прохладно, а изломанные стулья, кадки, доски и всякая рухлядь принимали в темноте пугающие очертания; а когда Арина была одна среди них - ей было до того страшно, что она почти не спала и, лежа на снопах соломы с открытыми глазами, все шептала про себя молитвы, известные ей.
Гомозов пришел, долго и молча мял и тискал ее, а когда устал, то заснул. Но скоро Арина разбудила его тревожным шепотом:
- Тимофей Петрович! Тимофей Петрович!
- Ну? - сквозь сон спросил Гомозов.
- Заперли нас...
- Как так? - спросил он, вскакивая.
- Подошли и... замком...
- Врешь ты! - испуганно и гневно шепнул он, отталкивая ее от себя.
- Погляди сам, - покорно сказала она.
Он встал и, задевая за все, что встречалось на пути, подошел к двери, толкнул ее и, помолчав, угрюмо сказал:
- Это солдат...
За дверью раздался ликующий хохот.
- Выпусти! - громко попросил Гомозов.
- Что? - раздался голос солдата.
- Выпусти, мол...
- Утром выпустим, - сказал солдат и пошел прочь.
- Дежурство у меня, черт! - сердито и умоляюще крикнул Гомозов.
- Я подежурю... сиди, знай!..
И солдат ушел.
- Ах, собака! - с тоской прошептал стрелочник. - Погоди... запирать меня все-таки ты не можешь... Есть начальник... что ты ему скажешь? Он спросит - где Гомозов - а? Вот ты и отвечай ему тогда...
- Да это, поди-ка, начальник сам и велел ему, - тихо и безнадежно сказала Арина.
- Начальник? - испуганно переспросил Гомозов. - Зачем же это ему? - И, помолчав, он крикнул ей: - Врешь ты!
Она ответила тяжелым вздохом.
- Что же это будет? - спросил стрелочник, усаживаясь на кадку около двери. - Срам-то мне какой! А все ты, уродина чертова, все ты это... у-у!
Сжав кулак, он погрозил в сторону, откуда доносился звук ее дыхания. Она же молчала.
Сырая тьма окружала их, - тьма, пропитанная запахом кислой капусты, плесени и еще чего-то острого, щекотавшего нос. В дверь сквозь щели пробивались ленты лунного света. За дверьми грохотал товарный поезд, уходивший со станции.
- Что молчишь, кикимора? - заговорил Гомозов со злобой и презрением. Как теперь я буду? Наделала делов и молчишь? Думай, черт, что будем делать? Куда от сраму мне деваться? Ах ты, господи! На что я связался с этакой!..
- Я прощения попрошу, - тихо объявила Арина.
- Ну?
- Может, простят...
- Да мне что из того? Ну, простят тебя, ну? Ведь срам-то на мне останется или нет? Надо мной смеяться-то будут?
Помолчав, он снова начинал укорять и ругать ее. А время шло жестоко медленно. Наконец женщина с дрожью в голосе попросила его:
- Прости ты меня, Тимофей Петрович!
- Колом бы тебя по башке простить! - зарычал он.
И опять наступило молчание, угрюмое, подавляющее, полное тупой боли для двух людей, заключенных во тьме.
- Господи! хоть бы светало скорее, - тоскливо взмолилась Арина.
- Молчи ты... я те вот засвечу! - пригрозил ей Гомозов и снова начал бросать в нее тяжелыми укорами. Потом наступила пытка тишиной и молчанием. А жестокость времени все увеличивалась с приближением рассвета, точно каждая минута медлила исчезнуть, наслаждаясь смешным положением этих людей.
Гомозов задремал наконец и проснулся от крика петуха, раздававшегося рядом с погребом.
- Эй, ты... ведьма! Спишь? - глухо спросил он.
- Нет, - тяжелым вздохом ответила Арина.
- А то бы заснула! - с иронией предложил стрелочник. - Эх ты...
- Тимофей Петрович, - почти взвизгнув, воскликнула Арина, - не сердись ты на меня! Пожалей ты меня! Христом богом прошу - пожалей! Одна ведь я, одна-то одинешенька! И ты мне... родной ты мой - ведь ты мне...
- Не вой - не смеши людей-то! - строго остановил Гомозов истерический шепот женщины, несколько смягчавший его. - Молчи уж... коли бог убил...
И снова они молча ждали каждой следующей минуты. Но минуты шли, не принося им ничего. Вот наконец в щелях двери сверкнули лучи солнца и блестящими нитями прорезали тьму на погребе. Вскоре около погреба раздались шаги. Кто-то подошел к двери, постоял и удалился.
- М-мучители! - замычал Гомозов и плюнул. Снова ожидание, молчаливое и напряженное.
- Господи!.. помилуй... - прошептала Арина.
Как будто тихо подкрадываются к погребу... Гремит замок, и раздается строгий голос начальника:
- Гомозов! Бери Арину за руку и выходи - ну, живо!..
- Иди ты! - вполголоса сказал Гомозов. Арина подошла и, опустив голову, стала рядом с ним.
Дверь отворилась, перед ней стоял начальник станции. Он кланялся и говорил:
- С законным браком поздравляю! Пожалуйте! Музыка - играй!
Гомозов шагнул через порог и остановился, оглушенный взрывом нелепого шума. За дверью стояли Лука, Ягодка и Николай Петрович.
Лука бил кулаком по ведру и козлиным тенором орал что-то; солдат играл на своем рожке, а Николай Петрович махал в воздухе рукой и, надув щеки, делал губами, как труба:
- Пум! Пум! Пум-пум-пум!
Ведро дребезжало, рожок выл и ревел. Матвей Егорович хохотал, взявшись за бока. Хохотал и его помощник при виде Гомозова, растерянно стоявшего перед ними, с серым лицом и сконфуженной улыбкой на дрожащих губах. За ним неподвижно, точно каменная, стояла Арина, опустив голову низко на грудь.
Тимофею да Орина
Сладки речи говорила...
пел Лука ерунду и строил Гомозову отвратительные рожи. А солдат придвинулся к Гомозову и, подставив рожок к его уху, играл, играл.
- Ну, идите... ну... под руку бери ее!.. - кричал начальник станции, надрываясь от хохота. На крыльце сидела жена и качалась из стороны в сторону, визгливо вскрикивая:
- Мотя... будет... ах! умру!
За миг свиданья
Терплю страданья!
пел Николай Петрович под самым носом Гомозова.
- Ур-ра новобрачным! - скомандовал Матвей Егорович, когда Гомозов шагнул вперед. И все четверо дружно гаркнули "ура", причем солдат кричал ревущим басом.
Арина шла за Гомозовым, подняв голову, раскрыв рот и свесив руки вдоль корпуса. Глаза у нее тупо смотрели вперед, но едва ли видели что-нибудь.
- Мотя, вели им... поцеловаться!.. ха, ха, ха!
- Новобрачные, горько! - закричал Николай Петрович, а Матвей Егорович даже прислонился к дереву, ибо от смеха не мог держаться на ногах. А ведро все грохотало, рожок выл, ревел, дразнил, и Лука, приплясывая, пел:
А и густо ты, Орина,
Да нам кашу наварила!
И Николай Петрович снова делал губами:
- Пум-пум-пум! Тра-та-та! Пум! пум! Тра-ра-ра!
Гомозов дошел до двери в казарму и скрылся. Арина осталась на дворе, окруженная беснующимися людьми. Они орали, хохотали, свистали ей в уши и прыгали вокруг нее в припадке безумного веселья. Она стояла перед ними с неподвижным лицом, растрепанная, грязная, и жалкая, и смешная.
- Новобрачный удрал, а... она осталась, - кричал Матвей Егорович жене, указывая на Арину, и снова корчился от хохота.
Арина повернула к нему голову и пошла мимо казармы - в степь. Свист, крик, хохот провожали ее.
- Будет! Оставьте! - кричала Софья Ивановна. - Дайте ей очухаться! Обед нужно готовить.
Арина уходила в степь, туда, где за линией отчуждения стояла щетинистая полоса хлеба. Она шла медленно, как человек, глубоко задумавшийся.
- Как, как? - переспрашивал Матвей Егорович участников этой шутки, рассказывавших друг другу разные мелкие подробности поведения новобрачных. И все хохотали. А Николай Петрович даже тут нашел время и место вставить маленькую мудрость:
Смеяться, право, не грешно
Над тем, что кажется смешно!
сказал он Софье Ивановне и внушительно добавил: - Но много смеяться вредно!
Смеялись на станции в тот день много, но обедали плохо, потому что Арина не явилась стряпать и обед готовила сама начальница станции. Но и дурной обед не убил хорошего настроения. Гомозов не выходил из казармы до времени своего дежурства, а когда вышел, то его позвали в контору начальника, и там Николай Петрович, при хохоте Матвея Егоровича и Луки, стал расспрашивать Гомозова, как он "увлекал" свою красавицу.
- По оригинальности - это грехопадение номер первый, - сказал Николай Петрович начальнику.
- Грехопадение и есть, - хмуро улыбаясь, говорил степенный стрелочник. Он понял, что если сумеет рассказать об Арине, подтрунивая над нею, то над ним будут меньше смеяться. И он рассказывал:
- Вначале она мне все подмаргивала.
- Подмаргивала?! Ха-ха-ха! Николай Петрович, вы только вообразите, как это она, этакая р-рожа, должна была ему подмаргивать? Прелесть!
- Значит, подмаргивает, а я вижу и думаю про себя - шалишь! Потом, стало быть, говорит, хочешь, говорит, я тебе рубахи сошью!
- Но "не в шитье была тут сила"... - заметил Николай Петрович и пояснил начальнику: - Это, знаете, из Некрасова - из стихотворения "Нарядная и убогая"... Продолжай, Тимофей!