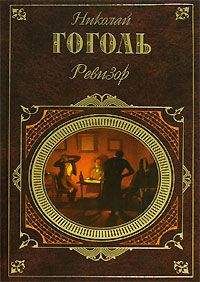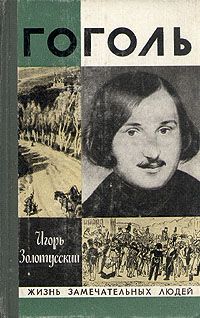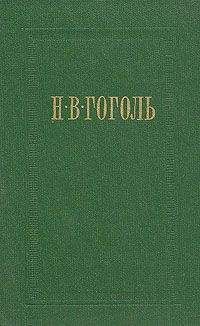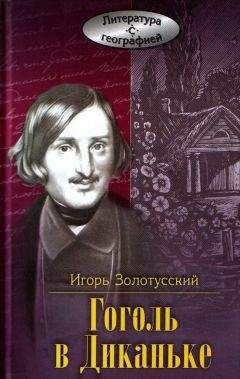В Вересаев - Гоголь в жизни
Белинский в письме к Гоголю обвинил его в том, что он хочет подыскаться к царскому дому. Гоголь ответил ему: "Никакого не было у меня своекорыстия. Ничего не хотел я... выпрашивать... Вспомнили бы вы, по крайней мере, что у меня нет даже угла, и я стараюсь только о том, как бы еще облегчить мой небольшой походный чемодан, чтоб легче было расстаться с миром".
Этого ответа Гоголя нет в книге "Гоголь в жизни". Он взят нами из Полного собрания сочинений, где напечатан в примечаниях как незначительный факт эпистолярного наследия Гоголя. В. Вересаев упоминает о нем, но цитирует то письмо, которое Гоголь послал Белинскому, тогда как первый вариант ответа был разорван Гоголем (но сохранен для потомства).
Письмо Белинского Гоголю дается в книге полностью, а письмо Гоголя Белинскому - с купюрами, что же касается неотосланного ответа, то о нем только говорится, что он имел место.
Меж тем без него не понять всей глубины спора, состоявшегося в 1848 году между Гоголем и Белинским. Это спор пророческий, причем пророческий не только со стороны великого критика, но и великого поэта. В нем явственно обозначаются два взгляда на прогресс, на пути развития России в XIX веке. Этот спор-диалог предваряет споры Достоевского и Лескова с нигилистами, Толстого - с революционерами. Тут на одной позиции бомбометатели и приверженцы изменения основ общества с помощью силы, на другой - философы самосовершенствования, противники крови, противники насилия.
Вот что пишет Гоголь в неотосланном письме Белинскому: "Вы говорите, что спасение России в европейской цивилизации. Но какое это беспредельное и безграничное слово. Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивилизации, которое бессмысленно повторяют все. Тут и фаланстерьен, и красный (в другом варианте: "Коммунист ли, фаланстерьен". И. З.), и всякий, и все друг друга готовы съесть, и все носят такие разрушающие, такие уни-{8}чтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация!"
Другое место из письма касается пункта о церкви - одного из главнейших пунктов манифеста Белинского: "Вы отделяете церковь от Христа и христианства, ту самую церковь, тех самых... пастырей, которые мученической своей смертью запечатлели истину всякого слова Христова, которые тысячами гибли под ножами и мечами убийц, молясь о них, и наконец утомили самих палачей, так что победители упали к ногам побежденных, и весь мир исповедал это слово... Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и грабить тех, которые нажили себе состояние? Опомнитесь!"
Никто, прочитав эти строки, не скажет, что Гоголь не понимал современного состояния общества, был далек от него. Гоголь выступает в этих предсказаниях как предтеча Достоевского, который вышел не только из гоголевской "Шинели", но прежде всего из "Выбранных мест из переписки с друзьями" и спора Белинского с Гоголем.
"Брожение внутри не исправить никаким конституциям, - писал Гоголь Белинскому. - Общество образуется само собою, общество слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполнила должность свою... Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство".
Строк этих опять-таки нет в книге "Гоголь в жизни" - их и не могло быть. Когда писалась книга В. Вересаева, вопрос о насилии, как о средстве изменения человека и общества, был решен в пользу насилия. Но нынче, когда мы пожинаем плоды этого насилия, когда нам открылись глаза на его страшный результат, мы смотрим на спор Белинского и Гоголя не так, как смотрел на него В. Вересаев.
Вот и В. Набоков с подачи В. Вересаева (а он признается, что писал эссе о Гоголе, руководствуясь фактами этой "прелестной биографии") повторяет мысль о том, что Гоголь "погубил" свой гений, "пытаясь стать проповедником", что он был "странным, больным человеком" и, очевидно, поэтому предпочел "пользу" бесцельному творчеству. "Фантазия бесценна лишь тогда, когда она бесцельна",- добавляет В. Набоков.
В. Набоков, как черта, боится пользы, как только на горизонте появляется угроза полезности или какого-то "направления" в литературе, он заклинает ее, как заклинали в старых сказках черта: "Чур! Чур!" Но и В. Вересаев, который далек от эстетизма В. Набокова, не приемлет гоголевское проповедничество как идеалистическое.
При всей целостности книги Гоголь предстает в ней как "смесь противоречий". Он отвечает той характеристике, которую сам дал себе, когда ему было двадцать лет: "Часто я думаю о себе, зачем Бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере, редкое в мире, чистую, пламенеющую любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем он дал этому такую грубую оболочку? зачем он одел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения?"
Письма Гоголя и по сей день смущают его биографов. Они, за редкими исключениями, полны напряжения, какого-то восторга чувств, которые несвойственны обыкновенной переписке. В. Вересаев много цитирует самого Гоголя, и всякий раз читатель невольно задает себе вопрос: искренен ли Гоголь, или он встает на котурны. {9} пытается возвыситься над самим собой, предстать перед своим адресатом не таким, каков он есть? Привычка Гоголя перебеливать свои письма известна. Даже письма к маменьке в школьные годы он переписывает по нескольку раз. Черновики писем Гоголя, хранящиеся в архивах, несут на себе следы страданий, волнения, слез, они выдают если не мысли автора, то, по крайней мере, его настроение, его состояние в тот момент, когда они написаны.
В беловиках этого настроения нет. Беловой почерк Гоголя иногда настолько бесстрастен, безукоризненно чист и идеален (вспомним любовь к переписыванью у Акакия Акакиевича), что понять что-либо о Гоголе из этого почерка невозможно. Гоголь этой чистотой как бы забеливает свои истинные переживания, как бы отводит читателя от своей души, как птица, делая круги над гнездом, отводит непрошеного гостя от своих птенцов.
Скрытность есть в характере Гоголя, есть она и в его почерке, в его переписке.
Иногда в письме прорывается вопль, отчаяние, призыв о помощи, иногда и увеличительное стекло не поможет прочесть, что же на самом деле творится с Гоголем. Это при том, что не исключены мистификации, не исключены намеренные указания на ложные источники изменившегося настроения, случившейся перемены.
Письма Гоголя (а их много в книге В. Вересаева) полны откровений, где Гоголь без обиняков высказывается о себе, не щадя своей гордости, своего самолюбия. Его ум, как любил он говорить, караулит над собой, и не дает сойти с оси иронического отношения к себе. Это тем более трудно, что, как только речь заходит о высоких вопросах, Гоголь впадает в торжественный тон. Но пафос Гоголя почти всегда сторожит ирония Гоголя.
Вдаваясь в излишества, он, остывая, сознает смешную сторону этих излишеств, их комизм. Он может сказать о своей книге: я размахнулся в ней эдаким Хлестаковым. Он смешит и смеется, отдаваясь бродящим в нем силам, и он, смеясь, видит в зеркале, где отражаются лица его героев, и свое лицо.
Можно сколько угодно подшучивать над тем, что в героях писателя отражается сам писатель, но для Гоголя это так. И хотя он говорил, что каждый раз изгонял из себя то Хлестакова, то Ноздрева, то Чичикова, что-то от этих персонажей оставалось в нем, жило в нем. В Гоголе жил отчасти и обжора Петух из второго тома "Мертвых душ", и Тентетников, помышляющий о благоустройстве всего Русского государства, и Пискарев, мечтающий о лучшей красавице Петербурга, и Шпонька, панически страшащийся женитьбы.
Читая его переписку, мы легко выуживаем из нее сведения о том, откуда взята сцена приема у "значительного лица" в "Шинели", сцена аудиенции у "министра" (которого Гоголь по требованию цензуры переделал в "вельможу") в повести о капитане Копейкине. Они списаны с собственных мытарств Гоголя. Интонации его первых писем маменьке из Петербурга напоминают причитания голодного Хлестакова, когда тот сидит без обеда в гостинице. А угрозы в адрес влиятельных лиц, мешающих ему занять кафедру всеобщей истории в Киеве, похожи на проклятья героя "Записок сумасшедшего", которые тот шлет своим обидчикам.
Гоголь в книге В. Вересаева и социальный пария, и всеведущий гений, и маленький чиновник, человек, чей талант в короткие сроки ставит его на самый верх образованного дворянства столицы, и стесняющийся провинциал, жмущийся к стенке в роскошной гостиной.
Гоголь, конечно, умеет и организовывать людей, ставить их в зависимость от {10} себя, от своей воли. Он человек практический, и Плетнев, Шевырев, Прокопович, Анненков и другие работают на него, участвуют в делах, переписывают "Мертвые души", издают их, ведают доходами и долгами Гоголя.