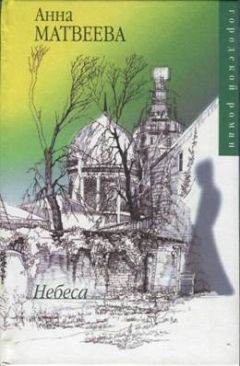Пауль Куусберг - В разгаре лета
Но она не заметила или не захотела заметить. Покончив со стрижкой, она сняла с меня простыню, стряхнула волосы на пол и сказала:
- Двадцать сентов, пожалуйста.
- Побрить тоже.
Я попытался сказать это как нечто само собой разумеющееся.
Она внимательно посмотрела на мой подбородок и спросила:
- С мылом или без?
Она спросила это ужасно громко. В зеркале я увидел, как взрослые, ждавшие своей очереди, заухмыля-лись. А может, они и не ухмылялись, может, парикмахерша задала вопрос обычным тоном, но так мне показалось. Во всяком случае, нервы мои были напряжены, я чувствовал себя смешным, мне было стыдно, жутко, и черт его знает что я там еще испытывал. Наверно, даже досаду, потому что я гаркнул во всю глотку:
- С мылом!
Чего уж там пищать, если тебя все равно выставили на посмешище? Так оно или иначе, но священный момент, которого я ждал с таким трепетом, превратился в тяжелое испытание.
Затем все пошло нормально. Благоухающая толстуха намылила мой подбородок, наточила бритву, отчего я вновь несколько воспрял, и сверкающая сталь скользнула по моей щеке. Я поморщился, и парикмахерша удивленно спросила:
- Вам больно?
- Пустяки!
На этот раз толстуха все же попалась и снова принялась точить бритву. Я испытывал блаженное чувство мести. Лишь позже я понял, что она все же отнеслась К моей мужской чести не вполне серьезно. Обычно мылят и бреют лицо дважды, а в тот ответственный час она обошлась одним разом.
Примерно в то же время распространились слухи, что она взяла к себе жить долговязого парня, на пятнадцать лет моложе себя. Она не вышла замуж за этого пьянчужку, который был гол, как брючная пуговица, а просто жила с ним, как с любовником. Женщины разводили руками, мужчины скалились, а мы, мальчишки, несли всякую похабщину.
И вот теперь я требую у этой самой парикмахерши паспорт. Она по-прежнему пышна и кругла, по-прежнему благоухает и по-прежнему не разучилась колыхать бедрами.
Протягивая удостоверение личности, она бросает мне кокетливый взгляд. Чтобы прийти в себя, я углубляюсь в изучение документа серьезней обычного, потом возвращаю его назад и окидываю взглядом комнату. Мягкий диван и мягкие кресла, круглый стол и буфет под орех. Пустой столик для приемника в углу. Дверь в соседнюю комнату закрыта. Скорее всего, там стоит широкая кровать тоже под орех, трехстворчатый шкаф и трюмо. Я раздумываю, заходить ли мне в другую комнату или нет.
- Вы же мой старый клиент! Голос ее звучит приторно. Мой спутник спрашивает:
- Больше тут никто не живет?
- Нет, милые молодые люди.
- Пошли! - И мой товарищ собирается уходить. Я открываю дверь в соседнюю комнату.
Там темно. И все-таки у меня возникает чувство, что в комнате кто-то есть. Я нашариваю рукой выключатель рядом с дверью и зажигаю свет. При мягком свете красного абажура я обнаруживаю, что за шкафом прячется какой-то человек. Он подходит ко мне, протягивает руку и непринужденно произносит:
- Здорово, Олев.
Передо мной Эндель Нийдас.
Да, это он. В летней рубашке с открытым воротом и в домашних туфлях.
- Так вы друзья? - восклицает у меня за спиной полная дама. - Как чудесно!
Я не знаю, что делать. Я поражен и растерян.
- У меня нет ночного пропуска, и мне не захотелось нарушать порядок, объясняет Нийдас. Хотя он старается держаться как можно спокойнее, я вижу, что он здорово нервничает.
Мой товарищ просовывает голову в дверь. Это новый человек у нас в батальоне, он не знает Нийдаса. Взглянув на Нийдаса, он спрашивает:
- Знакомый?
Я киваю головой. Не могу же я утверждать, будто не знаю Нийдаса.
Товарищ вежливо обращается к хозяйке:
- Если позволите, я выкурю папиросу, пока они поговорят.
- Прошу, прошу, - мигом соглашается хозяйка. Слова их звучат как-то слишком отчетливо. А я все
не могу сообразить, с чего начать. Но Нийдас начинает сам:
- Глупо в тот раз получилось. У меня в наркомате была договоренность помнишь ведь, я говорил тебе, что ходил туда. Им не хватало людей, заслуживающих доверия, которые смогли бы организовать эвакуацию заводов и станков. Я остался у них при условии, что они согласуют мой перевод из истребительного батальона.
Он врет. Но я удивляюсь, с какой находчивостью Нийдас способен заговорить зубы кому угодно. Не подыскивает слов, не отводит взгляда в сторону. Народная мудрость, правда, утверждает, будто люди с черной совестью избегают смотреть прямо в глаза, но, увы, есть исключения и из этого правила. Великие притворщики и жулики смотрят тебе в глаза честным взглядом и врут с самой ангельской миной.
- Паспорт у тебя с собой?
Я не хочу слушать его разглагольствований и не могу придумать более умного вопроса. Даже последнему подонку трудно сказать сразу, кто он такой.
- Конечно, с собой. Но скажи, Олев, зачем я должен предъявлять удостоверение личности? Ты же меня знаешь как облупленного. Шутник ты, братец, ей-богу. Этакий юморист.
Из соседней комнаты доносится звон рюмок. Я слышу, как женщина спрашивает: "У вас ведь найдется немного времени?"
Вероятно, вид у меня несколько необычный, потому что Нийдас все-таки подходит к шкафу, открывает дверцу и начинает рыться в пиджаке.
- Ты что, живешь тут?
Он оборачивается ко мне и, скорчив презрительную гримасу, говорит шепотом:
- Просто мимолетное приключение.
И опять врет. На самом деле Нийдас боится ночевать дома. Не то из-за нас, не то бог знает из-за чего.
- А Хельги?.. Хельги тоже мимолетное приключение?
Этого мне не следовало спрашивать. Или по крайней мере, сделать это необычайно холодно, свысока, с язвительным осуждением. Я и хотел держаться такого тона, но в голосе моем прозвучала горечь, и этого было достаточно.
- Ох, Олев, какой же ты молокосос! И до чего же ты, братец, ревнив. Но можешь быть спокоен, между нами ничего не было. Она, кажется, немножко увлеклась мной, но я ведь не свинья, Олев. А Хельги...
Он почти загнал меня в угол. Чувствую, как лицо начинает у меня гореть, еще минута - и я оставлю его в покое. Я становлюсь безоружным перед последним прохвостом, если мне дают понять, что я действую из эгоистических побуждений. Есть ведь такое понятие: эгоистическое побуждение... С виду скромная, а на самом деле предельно циничная похвальба Нийдаса, будто Хельги неравнодушна к нему, помогает мне преодолеть обычную робость. Я обрываю его:
- Пикни еще о санитарке хоть словечко, и я расквашу тебе рожу.
- Прости меня, ради бога, если я тебя задел.
Я чувствую, что Нийдас снова выскальзывает у меня из рук. Общаясь с лощеными и скользкими людьми, я становлюсь вконец беспомощным. Они словно окутывают твою волю каким-то клейким тестом и потом лепят из этого теста что хотят.
- А ты знаешь, что в батальоне тебя считают беглым?
Сам не понимаю, как мне подвернулось это старомодное слово "беглый", только Нийдас опять оказывается в седле. Он с несчастным видом разводит руками:
- Это не моя вина, а вина наркоматского отдела кадров. Они были обязаны уладить связанные со мной формальности. Но теперь я, слава богу, знаю, что они еще не сделали этого. Спасибо тебе, Олев,
В дверь стучат. Лишь тут я замечаю, что Нийдас успел закрыть ее. Он чертовски предусмотрителен. В дверях появляется раскрасневшаяся хозяйка квартиры.
- Товарищи, я вам немножко помешаю. Хочу предложить всем по чашке кофе. У таких друзей, надеюсь, найдется время на чашку кофе?
- Не забывай, Олев, что нам некогда.
Это кричит из другой комнаты мой спутник. При этом он явно что-то дожевывает.
Нийдас бросает хозяйке многозначительный взгляд, и дверь мгновенно захлопывается.
- Мы ходили к тебе домой. Разговаривали с твоей матерью, - говорю я.
Нийдас пугается. Так вот где у него слабое место!
- А что... что вы ей сказали?
- Не волнуйся, - говорю я презрительно. Презрение мое переходит в злость, и я вдруг нахожу нужные слова: - Мы не сказали твоей матери, что ее сын предатель. Да, ты предатель! За шкуру свою дрожишь, трус. Не сомневаюсь, что, если немцы захватят Таллин, ты, лишь бы выслужиться, начнешь выдавать всех честных рабочих. Ты в десять раз хуже Элиаса. Он не притворяется и не скрывается.
Я уже не могу остановиться и как следует отхлестываю словами Нийдаса. И под конец приказываю:
- Одевайся, пойдешь с нами. Выясним в штабе батальона, что ты здесь набрехал, а что правда.
В жизни не видел такого перепуганного и убитого человека. Губы у него дрожат. Он не может выговорить ни слова.
- Ладно, - говорю я, успокоившись, - сегодня мы тебя не заберем. Если ты человек, явишься завтра сам. А если шваль, так катись ко всем чертям.
Я оставляю его в задней комнате, кричу парикмахерше, которая зазывает меня к столу, что пусть она лучше позаботится о своем нахлебничке, и мы уходим.