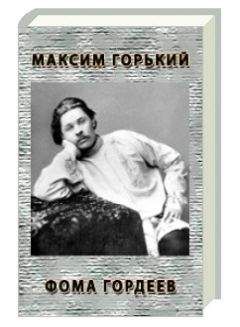Максим Горький - Том 4. Фома Гордеев. Очерки, рассказы 1899-1900
— Не знаю… Кажется… что теперь больше, чем прежде…
— Удивляюсь я, как можно любить такую? — пожав плечами, спросила девушка.
— Еще как можно! — воскликнул Фома.
— Не понимаю… Нет, это только потому ты привязался к ней, что лучше ее не видал…
— Не видал! — согласился Фома и, помолчав, нерешительно сказал: — Может, лучше и нет… Она для меня — очень нужна! — задумчиво и тихо продолжал он. — Боюсь я ее, — то есть не хочу я, чтобы она обо мне плохо думала… Иной раз тошно мне! Подумаешь — кутнуть разве, чтобы все жилы зазвенели? А вспомнишь про нее и — не решишься… И во всем так — подумаешь о ней: «А как она узнает?» И побоишься сделать…
— Да-а, — задумчиво протянула девушка, — значит, ты ее любишь… Я бы тоже… если б любила, то думала бы о нем… что он скажет?
— И всё у нее — особенное, — рассказывал Фома. — Говорит она по-своему… красива как, господи! И такая маленькая… как ребенок…
— Что же у вас вышло? — спросила Любовь. Фома вместе со стулом подвинулся к ней и, наклонившись, зачем-то понизив голос, стал рассказывать. Он говорил, и по мере того, как вспоминал слова, сказанные им Медынской, у него воскресали и чувства, вызывавшие эти слова.
— Я ей: «Эх ты! Играла ты со мной — зачем?» — гневно и с упреком говорил он. А Люба, с румянцем оживления на щеках, одобрительно кивая головой, поощряла его:
— Вот — хорошо! Ну, а она?
— Молчит! — тоскливо сказал Фома, передергивая плечами. — То есть она говорила… да что в том?
Он махнул рукой и замолчал. Люба, играя своей косой, тоже молчала. Самовар потух уже. А тьма в комнате всё сгущалась, в окна смотрело что-то мутное.
— Зажгла бы ты огонь!.. — предложил Фома.
— Какие мы с тобой оба несчастные… — сказала Люба и вздохнула.
Фоме не понравилось это.
— Я — не несчастный… — твердо возразил он. — Я просто не привык еще жить…
— Человек, который не знает, что он сделает завтра, — несчастный! — с грустью говорила Люба. — Я — не знаю. И ты тоже… У меня сердце никогда не бывает спокойно — всё дрожит в нем какое-то желание…
— Это и у меня есть, — сказал Фома. — Эх!.. Надо однако идти в клуб…
— Не уходи… — попросила Люба.
— Надо, там ждет меня один… Прощай!
— До свиданья! — Она протянула ему руку и печально посмотрела в глаза его.
— Спать ляжешь? — спросил Фома, крепко пожимая ее руку.
— Почитаю немножко…
— Ты к этому — как пьяница к водке… — с сожалением сказал он.
— Что же есть лучше?
Идя по улице, он взглянул на окна дома и в одном из них увидал лицо Любы, такое же неясное, как всё, что говорила девушка, как ее желания. Фома кивнул ей головой и подумал:
«Тоже заплуталась, как и та…»
При этом воспоминании он тряхнул головой, как бы желая спугнуть мысль о Медынской, и ускорил шаги.
Холодный, бодрящий ветер порывисто метался в улице, гоняя сор, бросая пыль в лицо прохожих. Во тьме торопливо шагали какие-то люди. Фома морщился от пыли, щурил глаза и думал:
«Ежели теперь встретится мне женщина — значит, Софья Павловна встретит меня ласково, по-старому… Завтра пойду к ней… А ежели мужчина — не пойду завтра, — погожу еще…»
Встретилась ему собака, и это так раздражило его, что ему захотелось ткнуть палкой собаку…
А в буфете клуба его встретил веселый Ухтищев. Он, стоя около двери, беседовал с каким-то толстым и усатым человеком, но, увидав Гордеева, пошел к нему навстречу, улыбаясь я говоря:
— Здравствуйте, скромный миллионщик! Он нравился Фоме за свой веселый нрав, и Фома всегда встречал его с удовольствием. Добродушно и крепко пожимая руку Ухтищева, Фома спросил его:
— А почему вы знаете, что я скромный?
— Он спрашивает! Человек, который живет, как отшельник, не пьет, не играет, не любит женщин… ах, да! Вы знаете, Фома Игнатьевич? Наша несравненная патронесса завтра уезжает за границу на всё лето.
— Софья Павловна? — медленно спросил Фома.
— Ну да! Заходит солнце моей жизни… а может быть, и вашей?
Ухтищев состроил комически-коварную гримасу и заглянул в лицо Фомы.
А тот стоял пред ним и чувствовал, что голова у него спускается на грудь и он не может помешать этому…
— Уезжает Медынская? — раздался жирный басовой голос. — Славно! Я рад…
— Позвольте — почему? — воскликнул Ухтищев. Фома глуповато улыбался и растерянно смотрел на усатого человека-собеседника Ухтищева. Тот важным жестом разглаживал усы свои, и из-под них лились на Фому тяжелые, жирные, противные слова:
— А по-отому, что в городе одной кокоткой будет меньше…
— Фи, Мартын Никитич! — укоризненно сказал Ухтищев, наморщивая брови.
— Почем вы знаете, что она кокетка? — угрюмо спросил Фома, подвигаясь к усатому господину. Тот окинул его пренебрежительным взлядом, отворотился в сторону и, дрыгнув ляжкой, протянул:
— Я не сказал — ко-окетка…
— Нельзя, Мартын Никитич, говорить так о женщине, которая… — заговорил Ухтищев убедительным голосом, но Фома перебил его:
— Позвольте! Я желаю спросить господина, что такое, — какое он слово сказал?
И, проговорив это твердо и спокойно, Фома сунул руки глубоко в карманы брюк, а грудь выпятил вперед, отчего вся его фигура сразу приняла явно вызывающий вид… Усатый господин вновь оглянул его и насмешливо улыбнулся…
— Господа! — тихо воскликнул Ухтищев.
— Я сказал — ко-ко-тка… — произнес усатый человек, так двигая губами, точно он смаковал слово. — А если вы не понимаете этого — могу пояснить…
— Да уж, — глубоко вздыхая, сказал Фома, не сводя с него глаз, — вы объясните…
Ухтищев всплеснул руками и сунулся куда-то в сторону от них…
— Кокотка, если вам угодно знать, — продажная женщина… — вполголоса сказал усатый, приближая к Фоме свое большое, толстое лицо.
Фома тихо зарычал и, прежде чем тот успел отшатнуться от него, правой рукой вцепился в курчавые с проседью волосы усатого человека. Судорожным движением руки он начал раскачивать его голову и всё большое, грузное тело, а левую руку поднял вверх и глухим голосом приговаривал в такт трепки:
— За глаза — не ругайся — а ругайся — в глаза прямо — в глаза — прямо в глаза…
Он испытывал жгучее наслаждение, видя, как смешно размахивают в воздухе толстые руки и как ноги человека, которого он трепал, подкашиваются под ним, шаркают по полу. Золотые часы выскочили из кармана и катались по круглому животу, болтаясь на цепочке. Опьяненный своей силой и унижением этого солидного человека, полный кипучего злорадства, вздрагивая от счастья мстить, Фома возил его по полу и глухо, злобно рычал в дикой радости. Он в эти минуты переживал чувство освобождения от скучной тяжести, давно уже стеснявшей грудь его тоскою и недомоганьем. Его схватили сзади за талию и плечи, схватили за руку и гнут ее, ломают, кто-то давит ему пальцы на ноге, но он ничего не видал, следя налитыми кровью глазами за темной и тяжелой массой, стонавшей, извиваясь под его рукой… Наконец его оторвали, навалились на него, и, как сквозь красноватый дым, он увидел пред собой, на полу, у ног своих, избитого им человека. Растрепанный, взъерошенный, он двигал по полу ногами, пытаясь встать; двое черных людей держали его под мышки, руки его висели в воздухе, как надломленные крылья, и он, клокочущим от рыданий голосом, кричал Фоме:
— Меня бить… нельзя! Нельзя! Я имею орден… подлец! О, подлец! У меня дети… меня все знают! Мер-рзавец… Дикарь… о-о-о! Дуэль!
А Ухтищев звонко говорил прямо в ухо Фоме:
— Пойдемте! Голубчик, бога ради…
— Погоди, я дам ему в рожу пинка… — попросил Фома. Но его потащили куда-то. В ушах его звенело, сердце билось быстро, но он чувствовал себя легко и хорошо. И на подъезде клуба, глубоко и свободно вздохнув, он сказал Ухтищеву, добродушно улыбаясь:
— Здорово я ему задал, а?
— Слушайте! — возмущенно воскликнул веселый секретарь. — Это, извините, дико! Это, чёрт возьми… я первый раз вижу!
— Милый человек! — ласково сказал Фома. — Аль он не стоит трепки? Не подлец он? Как можно за глаза сказать такое? Нет, ты к ней поди и ей скажи… самой ей, прямо!..
— Позвольте, — дьявол вас возьми! Да ведь не за нее же только вы его отдули?
— То есть как не за нее? А за кого? — удивился Фома.
— За кого? Я не знаю… очевидно, у вас были счеты! Фу, господи! Вот сцена! Вовеки не забуду!
— Он, этот самый, кто такой? — спросил Фома и вдруг засмеялся. — Как он кричал, — дурак!
Ухтищев пристально взглянул в лицо и спросил его:
— Скажите — вы в самом деле не знаете, кого били? И действительно за Софью Павловну только?
— Вот — ей-богу! — побожился Фома.
— Чёрт знает что такое!.. — Он остановился, с недоумением пожал плечами и, махнув рукой, вновь зашагал по тротуару, искоса поглядывая на Фому. — Вы за это поплатитесь, Фома Игнатьич…