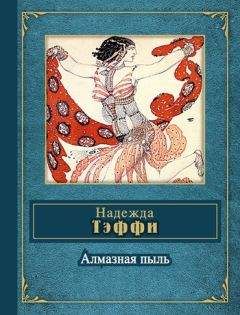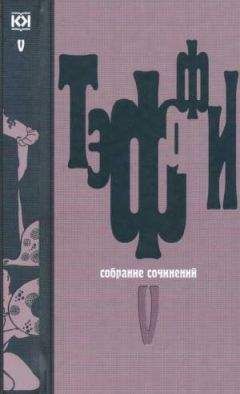Надежда Тэффи - Черный ирис. Белая сирень
Так и жила. Днем молчала, ночью передумывала, переглядывала. Слышала снова бабий визг по деревне, видела белую, бешеную злобу. Осатанели все. И сколько их набежало! Рябая Маврушка и та кричала, словно бахвалясь:
– А меня, думаете, не трогал? И меня трогал! Только я молчу. А уж коли все говорят, так и я скажу.
Рябая и та туда же. А парни смеялись:
– Ай да, Маврушка! А у самой тело, как у медведицы.
А Ерохина причитала:
– Я себя, может, восемь лет соблюдала, а он, проклятущийся, накося!..
И все тряслись от ревнивой злобы и кричали, словно бахвалились:
– А я! А меня!
Хитрый мужик, прозванный Котом, пощурился лукаво.
– Больно вы, бабочки, сердитыя. И с чего бы это так-то? Ась?
Видно, понял что-то.
* * *Подошли к Соловкам утром рано под заутренний звон.
На берегу встречать вышли монахи и чайки.
Монахи все худые и строголикие. Чайки крупные, плотные, чуть не с гуся величиной, ходили в перевалку и озабоченно по хозяйски переговаривались. Пароход разгружался медленно.
Еще часть богомольцев собирала свои котомки, как уже вернулась со Святого озера успевшая выкупаться в его ледяной воде старуха, жена кудрявого рыбака. Она шла в чистой холщевой рубахе и умиленно улыбалась фиолетовыми от холода губами.
Отец-гостинник, высокий монах с расчесанной бородой, распределял приезжих, кого куда. Народу наехало много, и, за неимением места, Рубаевых поместили в дворянскую комнату. Эта дворянская комната, большая, беленая, в два окна, перегорожена была на три закуточки. Одну занимал учитель с женой, другую, самую большую с тремя кроватями и диваном, целая компания: приезжий игумен восточного типа, красивый и нарядный, переодетый священником для удобства в пути.
– Монахов, заметил я, не любят и за все осуждают. Зачем курит, и зачем рыбу ест, и зачем чай с сахаром… А где в дороге устав соблюдать? Ну, вот, в священническом одеянии соблазну меньше.
В той же закутке помещался купец с дылдой гимназистом и старый ханжа чиновник. Все родственники.
Третью закутку, темную, отдали Рубаевым.
* * *Весь день ходили богомольцы то в церковь, то осматривали монастырь, то бродили по лесу, по берегу, по длинному гостиничному коридору, сырому, затхлому, с хлопающими на блоках липкими дверями, заходили в монастырскую лавочку, приторговывали иконы, тканые молитвой, смертные пояски и кипарисовые крестики.
В толпе выделялся, приехавший за исцелением, огромного роста парень, щеголевато одетый в новый картуз и лакированные сапоги. Парень был болен судорогой, раздиравшей ему рот. Точно в неодолимой, безмерной зевоте отводило ему нижнюю челюсть, язык высовывался и заливал шею слюной. Припадок кончался, и рот защелкивался, лязгнув зубами, как у собаки, поймавшей муху. Парня сопровождал коротенький человечек с серебряной цепкой на круглом животе. Он гордился болезнью парня и вел себя, как импресарио интересной труппы, суетился, крутился, объяснял.
– Зявает, зявает, несколько годов зявает. Сын богатых родителев. Прошу пропустить.
На монастырском дворе сидели чайки, круглые, спокойные, как домашние гуси. Сидели между могильными камнями, на дороге, ведущей в церковь, людей не боялись и места не уступали – хочешь идти, обходи кругом. Почти у каждой чайки на спине, как рябое пушистое яичко на тонких прутиках, стоял детеныш.
Чайки перекликались коротким, обрывистым лаем. Начинали всегда громко и потом затихали уныло и безнадежно. Сидели сбившись у монастыря и не летали. Холодно было. Маленькое, квадратное Святое озерко надулось сизой водой. Одна из чаек спустилась и долго подозрительно смотрела одним глазом на лиловую рябь. А поодаль стоял детеныш и пищал что-то наставителено, словно совет давал. Чайка вытянула лапу, потрогала воду и, отдернув лапу, повела головой.
– Что, тетка, холодно? – спросил монашек.
Однобокие деревья мотались по серому небу, однобокие потому, что ветки росли у них только со стороны, обращенной на юг, и тянулись как руки, простертые к далекой мечте – к солнцу. Северная сторона, обглоданная холодным дыханием горла Ледовитого океана, оставалась все лето голая и чахлая, как зимою.
У пристани мальчики-послушники в линялых скуфейках на мочальных, прядистых волосах бросали камешки в воду, боролись друг с другом неловко и незлобно, как молодые, хилые медвежата. Их привозили матери-поморки на год, на два по обету.
– Богу поработает и сам попитается.
Бродят монахи в одиночку по берегу. Остановятся и глядят на воду, точно ждут чего-то.
А вода тугая, лиловая, шлепает о бурые скалы – тоска!
Рубаевы ходили вместе с общей группой богомольцев и в церковь, и по лесу, где из часовенек выходили зеленые монашки и плохо понимали, ежели кто что спрашивал.
– Это какая церква?
– Куды?
Улыбались приветливо, потом отходили и смотрели на воду.
У Филаретовой часовни поднимали богомольцы длинный камень, служивший Филарету изголовьем, клали его на голову и обходили с ним часовню три раза посолонь – исцелялись от головной боли.
В далеких часовенках, верст за десять от монастыря, выползали навстречу старые старцы, еле дышали, чуть дыбали.
– И как это вы, батюшки, в церкву то ходите?
– А мы только раз в год ходим, родные, на святую Светлую Заутреню. Тогда все собираемся и лесные, и полевые, и болотные, и с каменных скал. Все приходим, тут нам и счет ведут. А питаемся так себе… Хлебушка нам завозят.
В гостинице сидеть было худо. Закутка темная, сырая. Семен садился на кровать и бубнил про свое вполголоса.
– Ты смотри на духу то все расскажи. Обстоятельно. Ежели не все расскажешь, так ты смотри.
Варвара молчала.
За перегородкой купец с гимназистом требовали самовары, пили чай. Набожно вздыхал чиновник.
За другой перегородкой ворчала учителева жена, осуждала порядки.
– Стоят да на воду смотрят. Это спасенье? За трапезой горчицей оскверняются! Это спасенье?
Снова бродили по берегу, по монастырским коридорам.
Смотрели картинки страшного суда и притчей Господних. Огромное бревно, упирающееся в глаз грешника, видящего «сучец в глазу ближнего». И дьявол, прельщающий красотою, выраженный художником в виде песьей, довольно симпатичной морды, мохнатых лап с перепонками, хвоста винтом и скромного коричневого передничка, подвязанного на животе. И душистая легенда о цветах именуемых липки, как молилась братия во храме, а дьявол ходил между молящимися и невидимо наделял их розовыми цветами, и кому доставался цветок, тот не мог больше молиться, а тайком уходил на волю, в соблазн весеннего солнца и трав, пока не был дьявол уличен святым старцем. И всякие мытарства и хождения по мукам, грехи и мучения, грехи и мучения…
К вечеру позвали в трапезную. Женщин отдельно.
Рядом с Варварой села баба в коросте. Напротив старуха – утиный нос. Перед тем как зачерпнуть из общей чашки, старуха длинным, вялым, как тряпка, языком облизывала ложку со всех сторон. Пили пресный, чуть отдающий мятой монастырский квасок, ели уху из соленой трески, уныло гнусил монах чтение: «Блуд, блуд, диавол…»
Ночи не было, и в безоконную закутку через не доходящую до потолка перегородку лился мутный, не бросающий тени свет.
Шамрам: песни Востока
П. А. Тикстону
Северной душе, влюбленной в Восток, посвящаю
«Лиловеет Босфор…»
Лиловеет Босфор…
Уснула вода –
Чуть дышит…
А на небе вышит
Восточный узор:
Полумесяц и рядом звезда.
Словно виньетка
Для книги Мудрого Шаха,
Книги меча и огня.
Иль как золотая метка
На синем платке Аллаха,
Развернутом для меня…
Фирюзэ-бирюза
Мои глаза –
Фирюзэ-бирюза,
Цветок счастья…
Взгляни! Пойми!
Хочешь? – Сними
С ног запястья…
Кто знает толк,
Тот желтый шелк
Свивает с синим…
Ай и мы вдвоем –
Хочешь? – совьем
И скинем…
Душна чадра…
У шатра до утра
В мушмале росистой
Поцелуй твой ждала,
Как мушмала,
Ай – душистый.
Придет черед –
Вот солнце зайдет
За Тау-горою…
Свои глаза,
Фирюзэ-бирюза,
Хочешь? – закрою…
Джанум
Я твоя Джанум! В мечети Айя-Софья
Сердце мне благословил Аллах,
Чтобы отдала тебе свою любовь я
В поцелуях, песнях и слезах…
Буду для тебя сидеть я на пороге,
Вить веретеном пурпуровую нить,
Чтобы бирюзой твои украсить ноги,
Темной амброй кудри опьянить…
Если ты уйдешь дорогой голубою –
Прошепчи: «Джанум» в аллаховом саду,
И отвечу я: «Эффендим! Я с тобою»,
И на зов твой с песнею пойду…
Джелиль