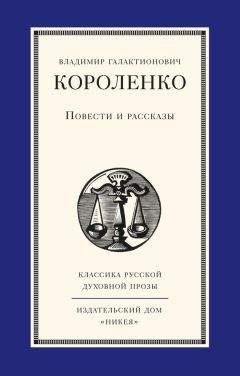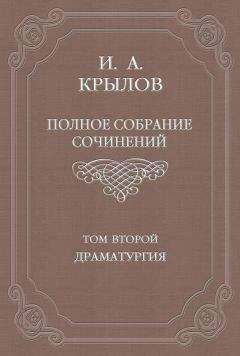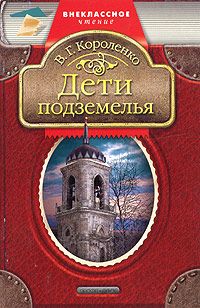Иван Крылов - Полное собрание сочинений. Том 1. Проза
Между тем множество приходящих теней толпятся у двора и ждут решений своей судьбы, но Плутон откладывает оные, не зная как их делать. Марс, думая подслужиться дядюшке своей любовницы{52}, ежечасно присылает к нам новых жителей, однако ж он не знает, что тем только мешает бедному Плутону в его забавах, который то и дело посылает проведывать о здоровье больных судей; но Гален, Эскулапий и Иппократ{53} доносят, что никаких еще нет признаков к их выздоровлению. К Буристону также посыланы были приказы, чтоб он старался поскорей отыскать трех честных и умных судей, но и тот покорнейше уведомляет, что все его поиски напрасны и что он скорее возьмется сыскать трех фениксов, шесть василисков и десять единорогов, нежели одного такого судью, каковы были Минос с его товарищами; а, сверх того, он доносит, что со времени их прибытия в ад сделалась на земле великая перемена, и разум с честностию в превеликой ссоре, так что ныне в свете много можно сыскать добродушных дураков и умных бездельников, но добродетельные мудрецы очень редки, а особливо на судейских стульях. И самому Плутону не хочется, чтоб в Елисейские поля был впущен всякий без разбору и чтоб награждения раздавались по проискам.
Таким-то образом, желая сего избежать, сам Плутон занимался рассматриванием дел, как вдруг вошла к нему Прозерпина. «Любезный супруг, – сказала она ему, – ты уже довольно потрудился и попотел: оставь, пожалуй, этот скучный стул и пойдем лучше на мою половину; я даю сегодня стол, превеликолепный концерт, бал и после театральное зрелище». – «Душа моя, – отвечал, нахмурив брови, важный Плутон, – дай мне окончить хоть несколько дел: ты уже и так причиною тому, что я остался без помощи и должен сам рассматривать дела и самых последних негодяев. Сказывай, – говорил он потом одному италиянцу, – что ты в свой век делал?» – «Я, ваше адское величество, – отвечал римлянин, – сорок восемь лет прыгал выше всех в Европе. Имя мое славно на всех театрах, но дарования нигде не остаются без гонения: из некоторых мест я был вытеснен знатными за то, что получал доходу более их; один полководец, охотник великий до скачков, чуть было не уморил меня за то, что я вспрыгнул выше его, а некоторый знатный господин, коего сын занимал важное место в государстве посредством проворства своих ног и был первым танцовщиком, не мог терпеть меня за то, что я, показавшись на придворном театре, уничтожил все внимание двора к ногам сего молодого вельможи, после чего и голова его потеряла всю доверенность». – «Но делал ли ты какие-нибудь добрые дела?» – спросил у него Плутон.
«Множество, – отвечал тонконогий Фурбиний: – я, выуча одного бедного дворянина танцовать, сделал тем его счастие, и он посредством танцования дошел, наконец, до великих чипов. Некоторой молодой женщины муж был за взятки посажен в тюрьму и приговорен к наказанию, которое бы, конечно, над ним исполнилось, но я научил ее, каким образом должна она была притти пред вельможу; я расписал ей все шаги и все поклоны; научил, как ей надобно было плакать и какие приятности употреблять в движении рук, так, как то часто делают балетные героини, отчего была она счастлива, половину моим, а половину, может быть, и своим искусством, и мужа ее оставили попрежнему на судейском стуле, где он под покровительством жениных балетных ухваток пользовался, как мог, своим местом. Одна знатная дама выгнала из своего дома молодого любимца; он бросился ко мне, я показал ему все тонкости моего знания, и он, проведав, что бывшая его благодетельница будет на бале у одной госпожи, танцовал на оном с такою приятностию, что она его с балу отвезла опять к себе в своей карете. Я множество делал еще добрых дел: я распространил мое искусство и исполнял свое звание с величайшим рачением, в чем свидетельствовать может то, что ныне многие судьи знают лучше танцовать, нежели судить, и многие молодые воины более имеют духу пропрыгать контрданец или сделать хороший антраша, нежели, оставя балы, итти в поле шагать под военную музыку, которая всегда дерет нежный слух хорошего танцовщика, привыкшего к приятной гармонии менуетов, польских и кадрилей».
«Бросьте сего развратителя благопристойности и нравов, – вскричал Плутон, – танцовать под музыку Эвменид{54}; самые его благодеяния унижают как его самого, так и тех, кому они оказаны, а пользы свету его скачки очень мало сделала». – «Помилуй, жизнь моя, – сказала Прозерпина Плутону, схватя за руку италиянца: – помилуй, ты заставляешь меня краснеться за себя: ты бог, а, право, менее смыслишь, нежели последний Деревенский мужик. Возможно ли так мало уважать редкие дарования этого любезного человека! Право, ты очень гадок с твоими глупыми сантансами{55}. Знай, сударь, – продолжала она, – что ныне весь большой свет танцует и что никакое искусство не почитается столь почтенным, как танцовальное: оно приносит уважение и доставляет богатство и чины. Нередко о том, кто хорошо прыгает контрданцы, заключают, что он может быть искусный воин, и дают ему полк, а самый искусный полководец, который не знает танцовать, почитается невежею. Какой ты сыщешь двор, где б не было уважено танцованье? а ты, сударь, хочешь подвергнуть наказанию человека, редкого в своем роде, которого одна нога стоит десяти таких голов, какова твоя; итак, я сказываю тебе, что я беру его под свое покровительство, делаю его первым балетмейстером своего двора, и завтра же ты начнешь учиться у него танцовать». – «Разве ты хочешь сделать из меня мальчика, богиня? – вскричал Плутон: – как! мне учиться танцовать! мне быть прыгуном! или ты хочешь меня выгнать отсюда своими попрыгушками?» – «Не выгнать, – отвечала Прозерпина, – а заставить тебя почувствовать, что танцованье всего почтеннее. Я сама, бывши на свете, повседневною была свидетельницею, что хорошего танцмейстера лучше принимают, нежели заслуженного офицера, и что в нынешнем просвещением свете, вообще, хорошие ноги в большем уважении, нежели хорошие головы».
После такого изрядного объявления бедный Плутон не знал, что делать, и лишился удовольствия наказать тонконогого тунеядца, которому препоручила богиня составить свой двор. Едва окончился их спор, как предстали пред Плутона доктора и доносили его бессмертию, что адские судьи совершенно здоровы: смеются, ходят, пьют и едят, но что двое из них навсегда оглохли, а третий невозвратно лишился ума; итак, куда приказано будет их поместить? Плутона немало обеспокоил сей вопрос, и он не успел еще сделать решения, как предстал пред него один дух, который просил его именем судей, чтобы позволил он им судить попрежнему тени, что еще в большее привело замешательство бедного Плутона, и он совсем не знал, что делать.
Прозерпина советовала ему, чтоб из уважения к их службе, несмотря на то, что они повредились, оставить их на прежних местах, и что лучше иметь каких-нибудь помощников, нежели самому за все дела приниматься. Плутон, может быть, и сам бы на это покусился для своей живописи, но он боялся Юпитера, которому не преминул бы Меркурий{56} наушничать по своей склонности. Танцмейстер, под покровительством Прозерпины, подал следующий голос: «Ваше адское величество, – сказал он: – хотя я, живши на свете, более прыгал, нежели вмешивался в неполитические дела, по слух о многих из них доходил до моих ушей, и я несколько успел узнать политические поступки в таких случаях. Мне кажется, что хотя Минос, Радомант и Эак танцовать не умеют, однако я признаюсь, что долговременная их служба уважения достойна, а всего важнее, что между ими есть сын Юпитера, то вам, не обидя батюшки, нельзя сынка отставить от места; также по слабости их нельзя им поручить и отправление важных дел, не подвергнув их тем замешательству, почему остается вам одни способ, чтобы, оставя при них прежние их достоинства, не давать им власти, и все дело состоит в том, чтоб приставить к ним умного секретаря, который бы вместо их рассматривал дела, а они бы подписывали то, что он им скажет». Все присутствующие похвалили его предложение, за что отвесил он многим по пренизкому поклону а ла менует, которые сделали его в глазах женщин совершенным умницею.
«Ах! какое это сокровище! – вскричала Прозерпина: – если б он вечно рта не отворял, то всякий бы его шаг доказывал, что его умнее никого нет на свете». Сам Плутон должен был признаться, что Фурбиний превеликий политик, и обещал приказать списать с него углем портрет для своей галлереи.
Но чтоб довести свое предложение до совершенства, Фурбиний обещался судей выучить танцовать. «Это очень нужно, – говорил он, – чтоб секретари знали бумаги, а судьи бы хорошо танцовали. В нашем свете, – продолжал он, – такой судья получает покровительство женщин и делает из себя важную особу при дворе он виден на всех балах, во всех маскарадах и во всех гуляньях, а между тем гремит скорыми решениями своих дел. Публика дивится его проворству и расторопности; все вычитают время его упражнения и находят, что он в сутки не более должен спать двух часов. При дворе делают о нем заключение, что это существо произведено целыми веками с тем, чтобы служить украшением двору, делать честь отечеству своими сочинениями и быть славнейшим министром. Все кричат: «Ах, как он хорошо танцует! какой он умница! какой исправный судья! и какой редкий сочинитель!» – но отними у сего чуда природы его секретаря и человека три ученых, которых труды издает он под своим именем, то останется при нем одно танцованье, коим приобрел он такую доверенность».