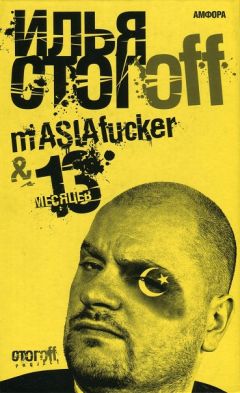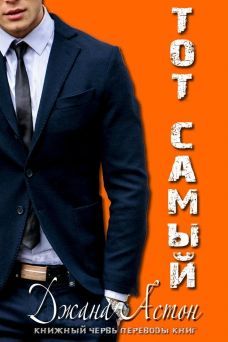Михаил Чулков - Русская проза XVIII века
— Без сомнения дошли до вас, — говорил он, — толки, сим листочком произведенные, но вы не должны о том беспокоиться. Правда, что многие наша братья дворяне сим вашим листом недовольны{47}, однако ж ведайте и то, что многие за оный же лист и похваляют вас. На всех никто угодить не может, так старайтесь, по крайней мере, угождать тем, которые во своих требованиях справедливее других. Впрочем, я совсем не понимаю, — продолжал он, — почему некоторые думают, что будто сей листок огорчает целый дворянский корпус. Тут описан помещик, не имеющий ни здравого рассуждения, ни любви к человечеству, ни сожаления к подобным себе; и следовательно, описан дворянин, власть свою и преимущество дворянское во зло употребляющий…[23] Кто не согласится, что есть дворяне, подобные описанному вами? Кто посмеет утверждать, что сие злоупотребление не достойно осмеяния? И кто скажет, что худое рачение помещиков о крестьянах не наносит вреда всему государству? Пусть вникнут в сие здравым рассуждением: тогда увидят, отчего остановляются и приходят в недоимку государственные поборы; отчего происходит то, что крестьяне наши бывают бедны; отчего у худых помещиков и у крестьян их частые бывают неурожаи хлеба?..[24] Не все ли сие проистекает от употребления во зло преимущества дворянского? Когда же неустроению сему причиною худые дворяне, то не достойны ли они справедливого порицания? Пусть скажут господа критики, кто больше оскорбляет почтенный дворянский корпус: я еще важнее скажу, кто делает стыд человечеству: дворяне ли, преимущество свое во зло употребляющие, или ваша на них сатира?
— Итак, верьте, — примолвил он, — что такие ваши сатиры не только что не огорчают дворян, украшенных добродетелию и знающих человечество, но паче еще и превозносят их. Правда, что в числе ваших критиков были и такие, которые порицали вас, будучи побуждаемы слепым пристрастием ко преимуществу дворянскому: но коль чудно и странно сие пристрастие! Как? защищать упорно такое преимущество, которым сами они и все честные и добросердечные дворяне никогда не пользуются?.. Я знаю еще недовольных вашим листком; но неудовольствие сих людей достойно того, чтобы вы имели к ним почтение: ибо они, не ведая вашей цели, никакого не могли поначалу сделать правильного заключения; и потому из любви ко ближнему более сожалели, нежели охуждали, что вы не с той стороны принялися за сию сатиру. Напротив того, бранили вас надменные дворянством люди, которые думают, что дворяне ничего не делают неблагородного; что подлости одной свойственно утопать в пороках; и что, наконец, хотя некоторые дворяне и имеют слабость забывать честь и человечество, однако ж будто они, яко благорожденные люди, от порицания всегда должны быть свободны. Сии гордые люди утверждают, что будто точно сказано о крестьянах: накажу их жезлом беззакония{48}: и подлинно, они часто наказываются беззаконием! Что по их мнению. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Мы привыкли, — продолжал он, — перенимать с жадностию все от иностранных, но, по несчастию нашему, почасту перенимаем только пороки их; например, когда были у нас в моде французы, то от обхождения с ними остались у нас легковерность, непостоянство, вертопрашество, вольность в обхождении, превосходящая границы, благоразумием учрежденные, и многие другие пороки. Французов сменили англичане: ныне женщины и мужчины взапуски стараются перенимать что-нибудь от англичан: все английское кажется нам теперь хорошо, прелестно, и все нас восхищает. И мы, по несчастию, столь пристрастны к чужестранному, что и самые пороки их нередко почитаем добродетелию. Французскую наглость называли мы благородною вольностию, а ныне английскую грубость именуем благородною великостию духа. Я говорю это, — продолжал он, — не в поношение обоих сих народов: ибо всяк ведает, что французы и англичане весьма много имеют доброго; но говорю единственно в доказательство пристрастного нашего к иностранным порокам прилепления. Кто захочет в истине сего мнения удостовериться, тот пусть пооглядится; я уверен, что он много найдет сему подобного. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Некоторые из нас удивлялися шатавшимся провинцияльным английским актерам{49}, а своих имеем, которые равняются с наилучшими английскими актерами и актрисами, но, однако ж, они нам не удивительны, потому только, что они русские.
— Когда ж все английское в такой у нас превеликой моде, то для чего любители иностранных вкусов не почитают тот ваш листок в английском вкусе написанным? Ибо в Англии дворяне критикуются, равно как и простолюдимы. Я сожалею, что вы в заглавии сего сочинения не написали: Путешествие, в английском вкусе написанное; может быть, что это название вместо порицания привело бы его в моду. О времена! о нравы! — сказал сей господин, воздохнувши.
После сего усильно просил он меня, чтобы продолжение и сие его рассуждение напечатал я в моих листах под названием Английской прогулки. Сколько ни отговаривался я от сей просьбы, но, однако ж, убежден был уверениями его, что сие рассуждение не будет противно дворянам истинно благородным. Итак, в удовольствие его я сообщаю и то и другое, прося притом извинения, что выключил нечто из его рассуждений: это показалося мне необходимо нужным.
IX{50}
Государь мой!
Не знаю, как в Петербурге, а у нас в Москве много вам чести делают ваши листочки. Что касается до меня, я о том только и думаю, чтоб они у меня были в полном собрании: и потому, что я не из тех числа, у коих пустые сказки преимуществуют пред благонамеренными сочинениями; и потому, что я весьма услаждаюсь, когда те произрастения, коими другие места к великой своей славе изобилуют, нахожу и на наших полях. Желал бы я, чтоб Россия, любезное мое отечество, меньше имело нужды в типографических товарах, выписываемых по милости иностранцев! Если какое находит она препятство к тому, чтоб нарещися ей за превосходные свои совершенства несравненною под солнцем страною, то другого нет, кажется, как сей токмо недостаток. Как вы думаете, господин живописец? Извинительны ли те, кои при всем том, что их и природа расположила, и науки уготовили, и известность воздаяния поощряет в сходственность их способностям трудиться, только что других критикуют? Мне кажется, лучше бы им быть слушателями критики, а не произносителями. Обуздайте слабость свою, о вы, наук питомцы! и признайтеся, что тех дней, кои вам осталось доживать, едва станет на заглаждение и одной вашей лености. Время приступить к лучшему; а особливо что никакого нет сомнения, будут ли ваши упражнения уважены, когда монаршеская щедрость ко вступлению в оные еще и приглашает вас. Смотрите, чтоб тот источник, который составляет и славу вашего имени, и награду трудов ваших, со временем не затворился. Извините меня, государь мой, что я это, на вашей кафедре ставши, прокричал.
Ваш усердный слуга
Прошу не погневаться.
P. S. Прошу меня уведомить, не противно ли будет вам, если я почаще к вам буду писать. Я бы недурным был в вашем искусстве подмастерьем, если позволите мне сообщать вам мои воображения.
Июля 2 дня, 1772 года,
из Москвы
XГосподин живописец! поместите, пожалуйте, следующее письмо в ваши листы, буде возможно; содержание его, кажется, заслуживает это, чтоб вы исполнили просьбу
вашего покорного слуги
П. Р.
[Письма к Фалалею]{51}
1. Письмо уездного дворянина к его сынуСыну нашему Фалалею Трифоновичу, от отца твоего Трифона Панкратьевича, и от матери твоей Акулины Сидоровны, и от сестры твоей Варюшки, низкий поклон и великое челобитье.
Пиши к нам про свое здоровье: таки так ли ты поживаешь; ходишь ли в церковь, молишься ли богу и не потерял ли ты святцев, которыми я тебя благословил. Береги их; вить это не шутка: меня ими благословил покойник дедушка, а его — отец духовный, ильинский батька. Он был болен черною немочью{52} и по обещанию ездил в Киев: его бог помиловал, и киевские чудотворцы помогли; и он оттуда привез этот канонник{53} и благословил дедушку, а он его возом муки, двумя тушами свиными да стягом{54} говяжьим. Не тем-то покойник свет будь помянут! он ничего своего даром не давал: дедушкины-та, свет, грешки дорогоньки становились. Кабы он, покойник, поменьше с попами водился, так бы и нам побольше оставил. Дом его был как полная чаша, да и тут процедили. Вить и наш батько Иван, кабы да я не таков был, так он бы готов хоть кожу содрать: то-то поповские завидливые глаза: прости господи мое согрешение! А ты, Фалалеюшка, с попами знайся, да берегись; их молитва до бога доходна, да убыточна… Как отпоешь молебен, так можно ему поднести чарку вина да дать ему шесть денег{55}, так он и доволен. Чего ж ему больше: прости господи, вить не рожна?{56} Да полно, нынече и винцо-та в сапогах ходит{57}: экое времечко; вот до чего дожили; и своего вина нельзя привезть в город{58}: пей-де вино государево с кружала{59} да делай прибыль откупщикам. Вот какое рассуждение! А говорят, что все хорошо делают: поэтому скоро и из своей муки нельзя будет испечь пирога. Да что уж и говорить, житье-то наше дворянское ныиече стало очень худенько. Сказывают, что дворянам дана вольность{60}: да черт ли это слыхал, прости господи, какая вольность? Дали вольность, а ничего не можно своею волею сделать; нельзя у соседа и земли отнять: в старину-то побольше было нам вольности. Бывало, отхватишь у соседа земли целое поле; так ходи же он да проси, так еще десять полей потеряет; а вина, бывало, кури сколько хочешь, про себя сколько надобно, да и продашь на сотню места{61}. Коли воевода приятель, так кури смело в его голову: то-то была воля-та! Нынече и денег отдавать в проценты нельзя: больше шести рублей брать не велят, а бывало, так бирали на сто и по двадцати по пяти рублей. Нет-ста, кто что ни говори, а старая воля лучше новой. Нынече только и воли, что можно выйти из службы да поехать за море{62}; а не слыхать, что там делать? хлеб-ат мы и русский едим, да таково ж живем. А из службы тогда хоть и не вольно было выйти, так были на это лекари: отнесешь ему барашка в бумажке{63} да судье другого, так и отставят за болезнями. Да уж, бывало, как приедешь в деревню-та, так это наверстаешь: был бы только ум да знал бы приказные дела, так соседи и не куркай{64}. То-то было житье! Ты, Фалалеюшка, не запомнишь этого. Сестра твоя Варя посажена за грамоту, батько Иван сам ей начал азбуку в ее именины; ей минуло пятнадцать лет: пора, друг мой, и об этом подумать; вить уж скоро и женихи станут свататься; а без грамоты замуж ее выдать не годится: и указа самой прочесть нельзя. Отпиши, Фалалеюшка, что у вас в Питере делается; сказывают, что великие затеи: колокольню строят и хотят сделать выше Ивана Великого: статочное ли это дело; то делалось по благословению патриаршему, а им как это сделать? Вера-та тогда была покрепче; во всем, друг мой, надеялись на бога, а нынече она пошатнулась, по постам едят мясо и хотят сами все сделать; а все это проклятая некресть делает: от немцев житья нет! Как поводимся с ними еще, так и нам с ними быть в аде. Пожалуйста, Фалалеюшка, не погуби себя, не заводи с ними знакомства: провались они, проклятые! Нынече и за море ездить не запрещают, а в «Кормчей книге»{65} положено за это проклятие. Нынече все ничего; и коляски пошли с дышлами, а и за это также положено проклятие; нельзя только взятки брать да проценты выше указных: это им пуще пересола; а об этом в «Кормчей книге» ничего и не написано. На моей душе проклятия не будет; я и по сю пору езжу в зеленой своей коляске с оглоблями. Меня отрешили от дел за взятки; процентов больших не бери, так от чего же и разбогатеть: вить не всякому бог даст клад; а с мужиков ты хоть кожу сдери, так немного прибыли. Я, кажется, таки и так не плошаю, да что ты изволишь сделать? Пять дней ходят они на мою работу, да много ли в пять дней сделают? Секу их нещадно, а все прибыли нет; год от году все больше нищают мужики: господь на нас прогневался; право, Фалалеюшка, и ума не приложу, что с ними делать. Приехал к нам сосед Брюжжалов; и привез с собою какие-то печатные листочки{66} и, будучи у меня, читал их. Что это у вас, Фалалеюшка, делается, никак с ума сошли все дворяне? чего они смотрят, да я бы ему проклятому и ребра живого не оставил. Что за живописец такой у вас проявился? какой-нибудь немец, а православный этого не написал бы. Говорит, что помещики мучат крестьян, и называет их тиранами; а того проклятый и не знает, что в старину тираны бывали некрещеные и мучили святых: посмотри сам в «Чети-Минеи»{67}; а наши мужики вить не святые: как же нам быть тиранами? Нынече же это и ремесло не в моде; скорее в воеводы добьешься, нежели во…{68} Да полно, это не наше дело. Изволит умничать, что мужики бедны: эдакая беда! неужто хочет он, чтоб мужики богатели, а мы бы, дворяне, скудели; да этого и господь не приказал: кому-нибудь одному богатому быть надобно, либо помещику, либо крестьянину: вить не всем старцам в игумнах быть. И во святом писании сказано: работайте господеви со страхом и радуйтеся ему с трепетом. Приимите наказание, да не когда прогневается господь: егда возгорится вскоре ярость его. — Да на что они и крестьяне: его такое и дело, что работай без отдыху. Дай-ка им волю, так они и неведь что затеют. Вот те на, до чего дожили! только я на это смотреть не буду: ври себе он, что хочет: а я знаю, что с мужиками делать. . . [25]