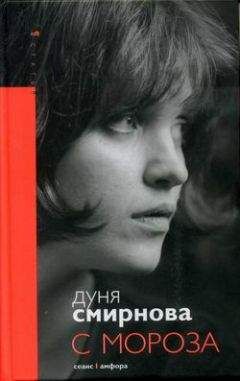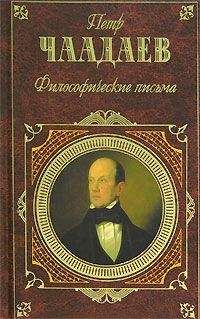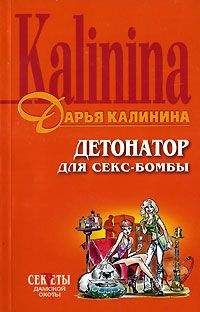Петр Чаадаев - Философические письма
Прощайте, сударыня. Вполне в вашей власти заставить меня продолжить мои рассуждения об этом предмете, сколько вам будет угодно. Впрочем, к чему в задушевной беседе, где собеседники вполне понимают друг друга, разрабатывать и исчерпывать до конца каждую мысль? Если того, что я сказал вам, достаточно, чтобы изучение истории могло дать вам нечто новое и возбудить в вас более глубокий интерес, чем какой оно вызывает обыкновенно, я буду вполне удовлетворен.[138]
Некрополь, 1829, 16 февраля
Письмо восьмое
Да, сударыня, пришло время говорить простым языком разума. Нельзя уже более ограничиваться слепой верой, упованием сердца; пора обратиться прямо к мысли. Чувству самому по себе не проложить себе пути через всю эту груду искусственных потребностей, враждебных друг другу интересов, беспокойных забот, овладевших жизнью. Во Франции и Англии она стала слишком сложной, слишком подвластной интересам, слишком личной; в Германии – она слишком отвлеченна, слишком эксцентрична, так что веления сердца утрачивают там свою по существу присущую им силу. А об остальном мире сейчас не стоит и говорить. Приходится ныне свести вопрос к одной, основанной на учете всех возможностей задаче, разрешение которой было бы по плечу всем сознаниям, подходило бы ко всяким настроениям, не поражало бы ничьих наличных интересов и, таким образом, могло бы увлечь даже самые упорные умы.
Это не значит, что предметы чувства навсегда изъяты из мира мысли. Не дай бог, настанет вновь и их черед. И тогда мы их увидим столь сильными, широкими, чистыми, какими они еще никогда не бывали. Я не сомневаюсь, время это скоро настанет. Но в наши дни, в данной обстановке, чувствам не дано потрясать души. Очень важно проникнуться этим сознанием. Правда, сейчас заметно некоторое пробуждение живых дарований, свойственных юношеской поре человечества. Но это лишь заря прекрасного дня; равнины пока сплошь покрыты сумеречной тенью, только некоторые вершины начинают загораться первыми лучами рассвета.
Для всякого, кому истина не безразлична, явные признаки ее налицо. Знаете ли вы, сударыня, что́ я разумею под этими признаками? Это вся совокупность исторических фактов, должным образом проработанных. Сейчас их надо свести в стройное целое, облечь в доступную форму и так их выразить, чтобы они подействовали на душу людей, самых равнодушных к добру, менее всего открытых правде, на тех, кто еще толчется в прошлом, когда для всего мира оно уже миновало и, конечно, более не вернется, но которое еще живо для ленивых сердец, для низменных душ, никогда не угадывающих настоящего дня, а вечно пребывающих во вчерашнем.
Окончательное просветление должно вытечь из общего смысла истории. И этот смысл должен быть впредь сведен к идее высшей психологии, а именно чтобы раз навсегда человеческое существо было постигнуто как разумное существо в отвлечении, а отнюдь не существо обособленное и личное, ограниченное в данном моменте, то есть насекомое-поденка, в один и тот же день появляющееся на свет и умирающее, связанное с совокупностью всего одним только законом рождения и тления. Да, надо обнаружить то, чем действительно жив человеческий род: надо показать всем таинственную действительность, которая в глубине духовной природы и которую пока еще усматривают только при некотором особом озарении. Лишь бы не быть слишком исключительным, мечтательным или схематичным, а главное – лишь бы говорить с веком языком века, а не устарелым языком догмата, ставшим непонятным, и тогда, без всякого сомнения, успех обеспечен, именно в наше время, когда и разум, и наука, и даже искусство страстно рвутся навстречу новому нравственному перевороту, как это было и в великую эпоху спасителя мира.
Я вам уже не раз говорил о влиянии христианской истины на общество. Но я сказал не все. Трудно этому поверить, а между тем то, что я скажу, совсем еще новая мысль: нравственное значение христианства достаточно оценено, но о чисто умственном его действии, о могучей силе его логики почти еще не думают. Ничего еще не было сказано о том значении, которое имело христианство в развитии и в образовании современной мысли. Пока еще не осознано, что вся наша аргументация – христианская; мы все еще мыслим себя в царстве категорий и силлогизмов Аристотеля. Дело в том, что нескончаемые сетования философов и отщепенцев на те века, когда якобы всесильны были одни только предрассудки, невежество и изуверство, заставили нас совершенно упустить из виду, как благодетельно было действие веры. Так что, когда пыл неверия миновал, самые праведные и смиренные уже оказались чуждыми на собственной своей почве и лишь с большим трудом вновь водворяли в своих мыслях все на свои места. Правда, эти умы к тому же не интересуются в должной мере изучением чисто человеческой действительности. Они к этому относятся слишком пренебрежительно. По привычке созерцать действия сверхчеловеческие, они не замечают действующих в мире природных сил и почти совсем упускают из виду вещественные условия умственной деятельности. Как бы то ни было, пора современному разуму признать, что всей своей силой он обязан христианству. Пора уразуметь, что лишь при содействии необычайных средств, дарованных откровением, и благодаря той живой ясности, которую оно сумело внести во все предметы человеческого мышления, воздвигнуто величавое здание современной науки. Эта горделивая наука должна, наконец, сама признать, что она так высоко поднялась теперь благодаря строгой дисциплине, незыблемости принципов и, прежде всего, благодаря инстинкту и страстному исканию истины, которые она нашла в учении Христа.
По счастью, мы живем уже не в те времена, когда партийное упорство принималось за убеждение, а выпады сект – за благочестивое рвение. Можно поэтому надеяться, что удастся сговориться. Но вы, конечно, согласитесь, что не истине делать уступки. И тут дело не в требованиях этикета: для законного авторитета уступка означала бы отказ от всякой власти, всякой активной роли, уступка была бы самоуничтожением. Вопрос тут не в поддержании престижа, не в каком-либо внешнем впечатлении. Всякий престиж навсегда утратил значение, и иллюзии отошли в вечность. Дело идет о самой реальной вещи, более реальной, чем это можно выразить словами. Ведь протекшее определяет будущее: таков закон жизни. Отказаться от своего прошлого – значит лишить себя будущего. Но те триста лет, которые числит за собой великое христианское заблуждение[139], вовсе не такое воспоминание, которое не могло бы быть при желании стерто. Отколовшиеся могут поэтому по произволу строить свое будущее. Исконная община изначала дышала лишь надеждой и верой в обещанное ей предназначение, а они – пребывали до сих пор без всякой идеи будущего.
Необходимо, однако, прежде всего выяснить одно важное обстоятельство. Между предметами, которые способствуют сохранению истины на земле, одним из наиболее существенных является, без сомнения, священная книга Нового завета. К книге, содержащей подлинный акт установления нового строя на земле, естественно относятся с особым непререкаемым уважением. Слово писаное не улетучивается, как слово произнесенное. Оно кладет свою печать на разум. Оно его сурово подчиняет себе своею нерушимостью и длительным признанием святости. Но вместе с тем, кодифицируя дух, слово лишает его подвижности, оно гнетет его, втесняя его в узкие рамки Писания, и всячески его сковывает. Ничто так не задерживает религиозную мысль в ее высоком порыве, в ее беспредельном шествии вперед, как книга, ничто так не затрудняет вполне прочного утверждения религиозной мысли в человеческой душе. В религиозной жизни все теперь основано на букве, и подлинный голос воплощенного разума пребывает немым. С амвонов истины раздаются только лишенные силы и авторитета слова. Проповедь стала лишь случайным явлением в строительстве добра. А между тем – надо же наконец прямо признать это, – проповедь, переданная нам в Писании, была, само собою разумеется, обращена к одним присутствовавшим слушателям. Она не может быть одинаково понятна для людей всех времен и всех стран. По необходимости она должна была принять известную местную и современную ей окраску, а это замыкает ее в такие пределы, вырваться из которых она может лишь с помощью толкования, более или менее произвольного и вполне человеческого. Так может ли это древнее слово всегда вещать миру с той же силой, как в то время, когда оно было подлинной речью своего века, действительной силой данного момента! Не должен ли раздаться в мире новый голос, связанный с ходом истории[140], такой, чтобы его призывы не были никому чужды, чтобы они одинаково гремели во всех концах земли и чтобы отзвуки и в нынешнем веке наперебой его схватывали и разносили его из края в край вселенной.
Слово – обращенный ко всем векам глагол – это не одна только речь спасителя, это весь его небесный образ, увенчанный его сиянием, покрытый его кровью, с распятием на кресте. Словом, тот самый, каким бог раз навсегда запечатлел его в людской памяти. Когда сын божий говорил, что он пошлет людям духа и что он сам пребудет среди них вечно, неужели он помышлял об этой книге, составленной после его смерти, где, худо ли, хорошо ли, рассказано об его жизни и его речах и собраны некоторые записи его учеников? Мог ли он полагать, что эта книга увековечит его учение на земле? Конечно, не такова была его мысль. Он хотел сказать, что после него явятся люди, которые так вникнут в созерцание и изучение его совершенств, которые так будут преисполнены его учением и примером его жизни, что нравственно они составят с ним одно целое, что эти люди, следуя друг за другом из поколения в поколение, будут передавать из рук в руки всю его мысль, все его существо: вот что он хотел сказать, и вот именно то, чего не понимают. Думают найти все его наследие в этих страницах, которые столько раз искажены были различными толкователями, столько раз сгибались по произволу.[141]