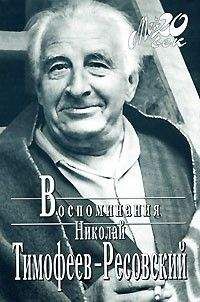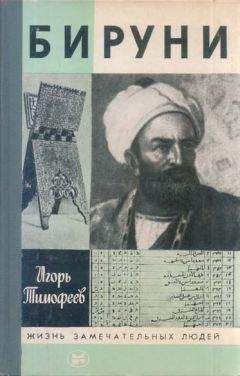Владимир Набоков - Приглашение на казнь
-- На окне в башне пымал. Чудище! Ишь как шастает, не удержишь...
Он намеревался пододвинуть стул, как всегда делал, чтобы, став на него, подать жертву на добрую паутину прожорливому пауку, который уже надувался, чуя добычу, -- но случилась заминка, -- он нечаянно выпустил из корявых опасливых пальцев главную складку полотенца и сразу вскрикнул, весь топорщась, как вскрикивают и топорщатся те, кому не только летучая, но и простая мышь-катунчик внушает отвращение и ужас. Из полотенца выпросталось большое, темное, усатое, -- и тогда Родион заорал во всю глотку, топчась на месте, боясь упустить, схватить не смея. Полотенце упало; пленница же повисла у Родиона на обшлаге, уцепившись всеми шестью липкими своими лапками.
Это была просто ночная бабочка, -- но какая! -- величиной с мужскую ладонь, с плотными, на седоватой подкладке, темно-коричневыми, местами будто пылью посыпанными, крыльями, каждое из коих было посредине украшено круглым, стального отлива, пятном в виде ока. То вцепляясь, то отлипая членистыми, в мохнатых штанишках, лапками и медленно помавая приподнятыми лопастями крыльев, с исподу которых просвечивали те же пристальные пятна и волнистый узор на загнутых пепельных концах, бабочка точно ощупью поползла по рукаву, а Родион между тем, совсем обезумевший, отбрасывая от себя, отвергая собственную руку, причитывал: "сыми, сыми!" -- и таращился. Дойдя до локтя, бабочка беззвучно захлопала, тяжелые крылья как бы перевесили тело, и она на сгибе локтя перевернулась крыльями вниз, все еще цепко держась за рукав, -- и можно было теперь рассмотреть ее сборчатое, с подпалинами, бурое брюшко, ее беличью мордочку, глаза, как две черных дробины и похожие на заостренные уши сяжки.
-- Ох, убери ее! -- вне себя взмолился Родион, и от его исступленного движения великолепное насекомое сорвалось, ударилось о стол, остановилось на нем, мощно трепеща, и вдруг, с края, снялось. Но для меня так темен ваш день, так напрасно разбередили мою дремоту. Полет, -- ныряющий, грузный, -- длился недолго. Родион поднял полотенце и, дико замахиваясь, норовил слепую летунью сбить, но внезапно она пропала; это было так, словно самый воздух поглотил ее.
Родион поискал, не нашел и стал посреди камеры, оборотясь к Цинциннату и уперши руки в боки.
-- А? Какова шельма! -- воскликнул он после выразительного молчания. Сплюнул, покачал головой и достал туго тукающую спичечную коробку с запасными мухами, которыми и пришлось удовлетвориться разочарованному животному. Но Цинциннат отлично видел, куда она села.
Когда Родион наконец удалился, сердито снимая на ходу бороду вместе с лохматой шапкой волос, Цинциннат перешел с койки к столу. Он пожалел, что поторопился слать все книги, и от нечего делать сел писать.
"Все сошлось, -- писал он, -- то есть все обмануло, -- все это театральное, жалкое, -- посулы ветреницы, влажный взгляд матери, стук за стеной, доброхотство соседа, наконец -- холмы, подернувшиеся смертельной сыпью... Все обмануло, сойдясь, все. Вот тупик тутошней жизни, -- и не в ее тесных пределах надо было искать спасения. Странно, что я искал спасения. Совсем -как человек, который сетовал бы, что недавно во сне потерял вещь, которой у него на самом деле никогда не было, или надеялся бы, что завтра ему приснится ее местонахождение. Так создается математика; есть у нее свой губительный изъян. Я его обнаружил. Я обнаружил дырочку в жизни, -- там, где она отломилась, где была спаяна некогда с чем-то другим, по-настоящему живым, значительным и огромным, -- какие мне нужны объемистые эпитеты, чтобы их налить хрустальным смыслом... -- лучше не договаривать, а то опять спутаюсь. В этой непоправимой дырочке завелась гниль, -- о, мне кажется, что я все-таки выскажу все -- о сновидении, соединении, распаде, -- нет, опять соскользнуло, -- у меня лучшая часть слов в бегах и не откликается на трубу, а другие -- калеки. Ах, знай я, что так долго еще останусь тут, я бы начал с азов и, постепенно, столбовой дорогой связных понятий, дошел бы, довершил бы, душа бы обстроилась словами... Все, что я тут написал, -- только пена моего волнения, пустой порыв, -- именно потому, что я так торопился. Но теперь, когда я закален, когда меня почти не пугает..."
Тут кончилась страница, и Цинциннат спохватился, что вышла бумага. Впрочем, еще один лист отыскался.
"...смерть", -- продолжая фразу, написал он на нем, -- но сразу вычеркнул это слово; следовало -- иначе, точнее: казнь, что ли, боль, разлука -- как-нибудь так; вертя карликовый карандаш, он задумался, а к краю стола пристал коричневый пушок, там, где она недавно трепетала, и Цинциннат, вспомнив ее, отошел от стола, оставил там белый лист с единственным, да и то зачеркнутым словом и опустился (притворившись, что поправляет задок туфли) около койки, на железной ножке которой, совсем внизу, сидела она, спящая, распластав зрячие крылья в торжественном неуязвимом оцепенении, вот только жалко было мохнатой спины, где пушок в одном месте стерся, так что образовалась небольшая, блестящая, как орешек, плешь, -- но громадные, темные крылья, с их пепельной опушкой и вечно отверстыми очами, были неприкосновенны, -- верхние, слегка опущенные, находили на нижние, и в этом склонении было бы сонное безволие, если бы не слитная прямизна передних граней и совершенная симметрия всех расходящихся черт, -- столь пленительная, что Цинциннат не удержался, кончиком пальца провел по седому ребру правого крыла у его основания, потом по ребру левого (нежная твердость! неподатливая нежность!), -- но бабочка не проснулась, и он разогнулся -- и, слегка вздохнув, отошел, -- собирался опять сесть за стол, как вдруг заскрежетал ключ в замке и, визжа, гремя и скрипя по всем правилам тюремного контрапункта, отворилась дверь. Заглянул, а потом и весь вошел розовый м-сье Пьер, в своем охотничьем гороховом костюмчике, и за ним еще двое, в которых почти невозможно было узнать директора и адвоката: осунувшиеся, помертвевшие, одетые оба в серые рубахи, обутые в опорки, -- без всякого грима, без подбивки и без париков, со слезящимися глазами, с проглядывающим сквозь откровенную рвань чахлым телом, -- они оказались между собой схожи, и одинаково поворачивались одинаковые головки их на тощих шеях, головки бледно-плешивые, в шишках с пунктирной сизостью с боков и оттопыренными ушами.
Красиво подрумяненный м-сье Пьер поклонился, сдвинув лакированные голенища, и сказал смешным тонким голосом:
-- Экипаж подан, пожалте.
-- Куда? -- спросил Цинциннат, действительно не сразу понявший, так был уверен, что непременно на рассвете.
-- Куда, куда... -- передразнил его м-сье Пьер, -известно куда. Чик-чик делать.
-- Но ведь не сию же минуту, -- сказал Цинциннат, удивляясь сам тому, что говорит, -- я не совсем подготовился... (Цинциннат, ты ли это?)
-- Нет, именно сию минуту. Помилуй, дружок, у тебя было почти три недели, чтобы подготовиться. Кажись, довольно. Вот это мои помощники, Родя и Рома, прошу любить и жаловать. Молодцы с виду плюгавые, но зато усердные.
-- Рады стараться, -- прогудели молодцы.
-- Чуть было не запамятовал, -- продолжал м-сье Пьер, -тебе можно еще по закону -- Роман, голубчик, дай-ка мне перечень.
Роман, преувеличенно торопясь, достал из-за подкладки картуза сложенный вдвое картонный листок с траурным кантом; пока его он доставал, Родриг механически потрагивал себя за бока, вроде как бы лез за пазуху, не спуская бессмысленного взгляда с товарища.
-- Вот тут для простоты дела, -- сказал м-сье Пьер, -готовое меню последних желаний. Можешь выбрать одно и только одно. Я прочту вслух. Итак: стакан вина; или краткое пребывание в уборной; или беглый просмотр тюремной коллекции открыток особого рода; или... это что тут такое... составление обращения к дирекции с выражением... выражением благодарности за внимательное... Ну это извините, -- это ты, Родриг, подлец, вписал! Я не понимаю, кто тебя просил? Официальный документ! Это же по отношению ко мне более чем возмутительно, -- когда я как раз так щепетилен в смысле законов, так стараюсь...
М-сье Пьер в сердцах шмякнул картоном об пол, Родриг тотчас поднял его, разгладил, виновато бормоча:
-- Да вы не беспокойтесь... это не я, это Ромка шут... я порядки знаю. Тут все правильно... дежурные желания... а то можно по заказу...
-- Возмутительно! Нестерпимо! -- кричал м-сье Пьер, шагая по камере. -- Я нездоров, -- однако исполняю свои обязанности. Меня потчуют тухлой рыбой, мне подсовывают какую-то шлюху, со мной обращаются просто нагло, -- а потом требуют от меня чистой работы! Нет-с! Баста! Чаша долготерпения выпита! Я просто отказываюсь, -- делайте сами, рубите, кромсайте, справляйтесь, как знаете, ломайте мой инструмент...
-- Публика бредит вами, -- проговорил льстивый Роман, -мы умоляем вас, успокойтесь, маэстро. Если что было не так, то как результат недомыслия, глупости, чересчур ревностной глупости -- и только! Простите же нас. Баловень женщин, всеобщий любимец да сменит гневное выражение лица на ту улыбку, которой он привык с ума...