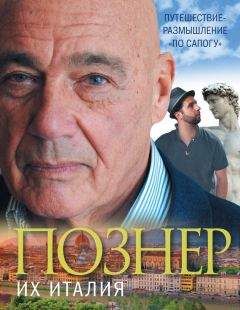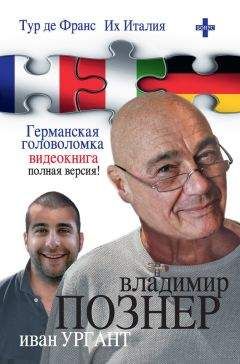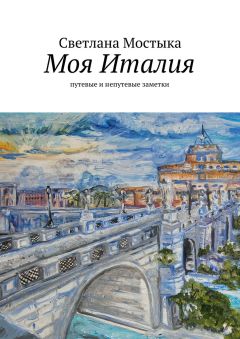Валентин Проталин - Тезей
- О чем, например? - поинтересовался Тезей.
- О спальных повозках...
- На такой повозке ты возлежал с Омфалой? - ехидно спросил Пилий.
Афиняне опять готовы были рассмеяться.
- Нет, - опередил их Геракл, - вы опять не поняли. В спальных повозках жили и ездили племена мушков. Они появились с севера, ограбили и разрушили великую державу хеттов. Царство Омфалы - островок, оставшийся от этой державы... Уцелело и еще кое-что.
- А мушки? - спросил Тезей.
- Мушки сначала застряли на границе Египта, затем взяли с фараона дань и исчезли.
- Совсем?
- Кто знает, - ответил Геракл и, помолчав, добавил. - И волна огня шла перед ними... Так написано в лидийских свидетельствах.
О Лидии гость рассказывал охотнее, чем об Омфале и себе. Поведал о золоте, добываемом на реке Пактол, о том, что молотьбой в этой стране занимаются женщины, что города ритуально очищаются, если в них стояли войска...
- Наверное, так женщины, собственно, даже не город, а себя очищают под руководством своей повелительницы, - сострил и Геракл.
- А как еще тебя называла твоя повелительница? - спросил Тезей, в котором слегка начал бродить хмель..
- Когда в хорошем настроении? - уточнил гость.
- Когда в хорошем...
- Отпрыск моего солнца, - улыбнулся Геракл.
И все улыбнулись.
- А когда в плохом?
- Не скажу...
На улицах города знаменитый гость вел себя иначе, чем с Тезеем и его людьми. Он непринужденно разговаривал посреди толпы, тут же собиравшейся при появлении всеэллинского силача, играл словами и мускулами, непринужденно же и помалкивал, если надоедало говорить. Он знал, афинянам достаточно было на него смотреть, смеялся он или нет, охотно ли отвечал всякому или сторонился прямого общения. В любом разе он представлял собою для них роскошное зрелище. Его даже и побаивались с чувством удовольствия. Каждый готов был принести хвалы герою, чуть ли не в очередь становились, слова подыскивали. Сочиняли речитативы, читали сочиненное ритмично, нараспев. И через какое-то время вдруг многие афиняне ощутили себя поэтами. Дар такой в себе обнаружили. В виде распаляющего голову и сердце томления.
И это счастливо совпало со стремлением тезеевых аристократов просвещать афинян. Были придуманы мелкие награды, раздавали их сочинителям восхвалений Гераклу прямо на людях. Эффект был таков, что сочинение ритмически выстроенных речей приняло повальный характер. Начав с Геракла, увлекшиеся стали общаться подобным образом со знакомыми, затем взялись и за своих близких, домашних, затем - соседей и далее, и далее... Круг расширялся. Кто-то из самых находчивых придумал, чем его стягивать. Стал записывать то, что напридумал. За ним - другой, третий. Кто конкретно были эти первые писатели, никто и не запомнил, потому что записывать каждый свое принялись чуть ли не все. Записывать придуманное, будто это долговое обязательство или сообщение на другой берег моря. Откуда ни возьмись, объявились и переписчики, кто за плату готов был аккуратными буквами занести на свитки или таблички сочиненное другими. Наиболее увлекшиеся придумали оставлять свои записи под печатью в храме. В свитках или на кипарисовых табличках, словно речь шла о законах или священных преданиях. И естественно, куда деться от новых веяний, священнослужители стали назначать плату за хранение напридуманного смертными. Спор даже наметился. Куда более пристойно складывать написанное - в храм Аполлона, Диониса или в государственное святилище Афины.
Никто, правда, не кинулся разворачивать чужие свитки. Чего их тревожить, если сам все сочиняешь и сочиняешь...
И надо же... Всем казалось, что ничего особенного и не произошло. Писали же - пусть тайно - и прежде на оградах, статуях и стенах храмов любовные признания, ругательства и пожелания кому-то отправиться куда подальше... Много писали.
Однако, из необозримо написанного количества теперь определилось и некое новое качество. Направление даже. Начали, помним, афиняне с восхвалений Гераклу, незаметно перешли на себя, на своих ближних и дальних соседей. Тут на одних восхвалениях не устоишь. Себя сочинители не щадили. Мало ли у тебя самого недостатков. А других земель греки - такие разные. Сверхпростодушны наивные беотяне. Сверхдисциплинированны строгие спартанцы... Крайности - и есть недостатки. Есть они и в Афинах. И все-таки при всей многоречивости, болтливости, неистребимого любопытства, пустой суетливости многих афинян, афинянин, если он хорош, то - особенно хорош. И лучше человека нигде не сыщешь.
Вот такое направление в настроенности афинян определилось.
Молодые тезеевцы, радовавшиеся повальному увлечению сочинительством, вдруг всполошились. Кто же будет теперь хранить в памяти сокровища священных слов, если передать и их мертвым буквам? А к тому идет. Что будет с самой памятью человека? Как она оскудеет? Записанное может стираться, как вычисления на восковых табличках. Вычислишь и сотрешь. Вычислишь и сотрешь. Еще священный текст может быть стерт случайно или по чьей-то злобе. Еще совсем недавно Герофила и Мусей потешались, представляя, как всякий будет записывать все, что взбредет ему в голову. Какое море чепухи и бессмыслицы... И молодые аристократы из окружения Тезея, то ли для того, чтобы превзойти простонародное сочинительство, то ли для того, чтобы ослабить разрушительное влияние его на память - хранительницу священного договорились записывать только самые удачные свои сочинения, когда слова ложатся в некое целое и это целое будет словно пропитано нектаром и амброй, прокалено прометеевым огнем. Так возникли понятия "иносказание", "аллегория", и в конце концов - понятие образа. Иносказание не терпит пустопорожнего многословия. В нем соединяются мысль, чувство и слово, и приобретает оно волшебную, неизъяснимую глубину, широту и одновременно точность. Такое стоит записывать для других.
И тут не обошлось без Геракла, поскольку он был у всех перед глазами с вечными своими дубиной и львиной шкурой. Можно сказать, толчок пошел от него.
- Чудовища, с которыми борется Геракл,- это предрассудки людей, изъяснился Пилий.
И Геракл словно приобрел еще одно неоспоримое достоинство.
Поездки Тезея по Аттике продолжались. И, конечно, в сопровождении Геракла. Его выставляли, демонстрировали могучего красавца-молчуна. Поглядите, мол, вот какой с нами герой. И никому тогда, конечно, не приходило в голову, что, может быть, тем самым молодые аристократы Афин невольно изобрели и показывали то и так, что в позднейшем будущем назовут рекламой.
И реклама все-таки действовала: Аттика согласилась с новыми правилами объединения вокруг Афин.
Но вот вышел редкий случай, когда Геракл остался наедине с Тезеем и предложил ему:
- Поплывем вместе с тобой к амазонкам. И еще кое-кого прихватим. Тряхнем стариной.
- Я же тут такое затеял, - засомневался Тезей.
- А помнишь, ты собирался жениться на амазонке?
- Помню, - улыбнулся молодой царь.
- Ну, как?
- Ох, - вздохнул Тезей.
- Ладно, это потом, - не стал настаивать Геракл, - а сейчас мы отправимся в пещеру нашего с тобой кентавра Хирона на свадьбу Пелея и Фетиды. Боги приглашают. Затем я к тебе и прибыл.
- Как отправимся?
- С Гермесом полетим... Как летали, не забыл?
- И ты так долго молчал! Ну, знаешь, Омфала все-таки обучила тебя женской скрытности, - усмехнулся Тезей.
Геракл задумался.
- Она мне обещала: ты душу мою переймешь, - сказал он после паузы.
- Вот-вот, - закивал Тезей.
- Но разве нас с тобой может что-то исправить, - рассмеялся Геракл.
Пятая глава
Мир благом наливается, как вымя,
И прах с величьем объединены.
Бессмертные познали вкус вины.
За акт творенья. И не роковыми
Становятся поступки, каковыми
Всегда являлись; и не со спины
Былое узнается. Мы верны
Самим себе. Как по огню, босыми
Ступаем... Вечность эта миг лишь длится.
Опять земные различимы лица,
Как в зеркале... Что на него пенять.
В какой-то миг рукой коснешься света.
И что еще ? Любовь, доступно это
Для тех, кто свой удел готов принять.
Пещера кентавра Хирона преобразилась. Если прежде ее высокие потолки пропадали во тьме, поскольку языки светильников не могли до них дотянуться, то теперь они терялись в сгустившемся свете. Не слепящем, но непроглядном, словно скорлупа гигантского яйца. Овальное днище пещеры представляло собой нарядную и красочную картину, верх которой обрамлял полукруг из двенадцати тронов для главных олимпийцев. За ними свет как-то еще более сгущался и уходил ввысь.
С двух боков пещеры, напротив друг друга, разместились Посейдон и Аид. Они церемонно отстранялись от свадебного пиршества. Владыка морей с женой Амфитридой возлежали в светящейся зеленью раковине с выпуклым днищем. Аид и Персефона восседали в двугорбой пещерке, сверкавшей изнутри чернотой. От этого кожа Персефоны, дочери Деметры, притягивала взоры особенной белизной.