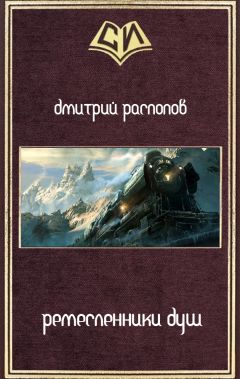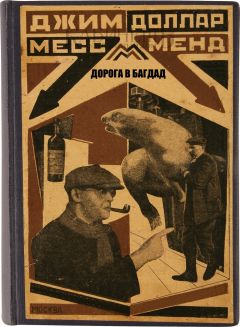Мариэтта Шагинян - Своя судьба
Я помолчал, соображая, что из этого следует. А Юра глядел на меня и хихикал.
— Вот дурак! Ключ, говорю тебе, ключ!
— Сам знаю, что ключ, — обиженно ответил я и насупился, — не украсть же мне его с пояса!
— Можно и не с пояса, — насмешливо ответил Юра. — Ты с ним рядом спишь, погляди, когда она снимет, и возьми.
Я почувствовал себя нехорошо и неловко. Внутреннее чувство это победило страх смалодушествовать, и, подпрыгнув на одной ножке, я свистнул, щелкнул листиком и убежал прочь. За ужином я нарочно не сел рядом с Юрой, а примостился возле Луизы и был очень доволен собой. Но вот наступил вечер, мы прочли «Vater unser»,[6] умылись холодной водицей и разошлись по спальням. Я ложился раньше Вильгельмины и Луизы и тотчас же засыпал. А на этот раз сон не идет ко мне, да и только. Напрасно я совал голову под подушку и читал таблицу умножения, — мне, вместо сна, лезли в голову странные мысли: о том, что Вильгельмина, раздеваясь, кладет вещи в кресло направо, а Луиза налево; о том, что ключ, должно быть, отвязывается от пояса; о том, куда спрятать индуса, если он, предположим, очутится у меня.
Как тогда, перед ямой, я чувствовал себя в полной безопасности. Я знал, что не украду и что между мной к воровством — ничего общего, никакой связи. И почему, когда ты так уверен в себе, не поглядеть, притворившись спящим, на сухую Вильгельмину в папильотках? Она снимает с себя кожаный пояс и вешает его на ширму. Я вижу веревочку с маленьким ключом от шкафа. У меня в кармане перочинный нож, а карман в куртке, а куртка тут же рядом на стуле. Смешно! Если вообразить Юру на моем месте, он вынул бы нож, перерезал веревку, спрятал ключ — и конец всему делу. Я судорожно зеваю и засыпаю на этой приятной мысли.
Много вечеров провел я, подобных этому, лицом к лицу с соблазном. Желание иметь индуса раньше притуплялось невозможностью его иметь и растворялось в тихую мечтательность; сейчас оно стало острым и болезненным, так как все теперь зависело от меня самого. Но чувство уверенности и безопасности меня не покидало, и мало-помалу оно стало толкать меня на разные невинные пробы. Ничего не случится, если заранее вынуть ножик. Какой грех в том, чтобы перетереть веревку? Она может состариться и разорваться сама по себе. Даже если я отопру шкаф и тихонько, на рассвете, поиграю с индусом, а потом снова запру его и ключ брошу на пол, возле ширмы, то никому от этого не будет худо. Однажды вечером я заснул с таким намерением и проснулся часа в три ночи, когда за окнами едва начал брезжить свет. Острое желание охватило меня. Я спустил на пол босые ноги и прислушался, — сестры Таубе мирно спали. Ключ свисал с пояса на веревочке, — я перетер тупым лезвием веревку, и он тихо упал на мое одеяло. Потом я подошел к шкафу, отпер его; он раскрылся легко и шумно, точно вздохнул на меня. Я дрожащей рукой схватил индуса, прижал его к себе и, оставив шкаф открытым, подкрался к окну.
До сих пор события были в моей власти. Я мог положить индуса обратно и сделать все, как намеревался раньше; мой поступок еще нельзя было назвать воровством. И со спокойной совестью я стал разглядывать индусскую книгу. К моему удивлению, буквы понять было не так-то легко, и все они походили на запятые, расставленные в различных направлениях. Я повертел их туда и сюда, заглянул в книгу и справа и слева, поставил ее вверх ногами и… но дальше мне ничего не пришлось сделать, так как индус выскользнул у меня из рук, упал на пол и разбился на мелкие кусочки. Я стоял оцепенев и глядел на осколки, когда костлявые пальцы Вильгельмины схватили меня за плечо. Она была в длинной ночной рубашке, с папильотками, сбившимися на затылок; лицо ее было бледно и перекошено.
— О du, Taugenichts, du, böser Bube, du!..[7] — захлебываясь, прошипела она, таща меня к моей постели.
— Минхен! — жалостно раздалось из-за ширмы.
— Ach, was Минхен! — ответила ей Вильгельмина. — Я его не бью. Пусть родители его проучат, гадкий воришка, злое, недоброжелательное существо. Разбить мамашиного индуса! — Она вдруг громко, судорожно заплакала, уже без злобы, а с обидой, и меня снова охватило страшное чувство непоправимости. Зачем я это сделал? Час тому назад я был еще свободен и независим, а сейчас я раздавлен и беспомощен и ничего не могу воротить, не могу сделать индуса целым, а себя прежним. Я сунул голову под подушку и тоже заплакал — без слез, стараясь, чтоб никому не было слышно.
Какие ужасные пять дней провел я после этого! Меня не наказывали и даже не бранили, но я чувствовал себя отлученным от всех. Через пять дней приехал дядя Андрон Иванович, и я шаркнул перед ним ногой, словно перед исполнительной властью. Он сидел за столом в комнате сестер Таубе, держа на коленях свою шляпу, и усы его были чернее обыкновенного. Вильгельмина последовательно изложила ему всю историю, ни разу не взглянув в мою сторону.
— Ah çа! — ответил кузен, не высказывая ни малейшего удивления и даже с некоторым удовольствием. — Я говорил, что у нее интуиция! Дело идет о собачке, mademoiselle, о левретке чистой воды. Можете вы себе представить, эта собака с первого раза почувствовала в нем предрасположение к воровству!
Я засопел носом. Луиза, сидевшая тут же, подняла голову от работы и тихонько сказала:
— Не следует говорить мальчику, что он вор. Это его унизит в собственных глазах и он перестанет стараться!
Милая, добрая Луиза! Из всех ее поучений это запомнилось мне навеки. Но ни Вильгельмина, ни Андрон Иванович не разделили ее взгляда, и кличка «вор» укрепилась за мной. Я носил ее с тупою покорностью и охладел к своим товарищам, играм и урокам. И странное дело, — злее всех дразнил меня ею и брезгливей всех избегал моего общества не кто иной, как Юра. Воровство стало казаться мне вовсе не невозможной вещью, и я привык к своему новому званию, как люди привыкают к клопам и грязи.
Два эти события раннего моего детства стали роковыми для всей моей последующей жизни. Я не стану описывать, как медленно, шаг за шагом, на пути моем вставали соблазны и как я подчинялся им, все больше и больше падая в своих глазах. Путь моего подчинения им был все такой же: сперва чувство уверенности и власти над событием, потом желание попробовать, — вкусить от древа, — и, наконец, свершение события, демонически овладевающего вами и становящегося господином положения. В юности был у меня товарищ, физик по образованию. Когда я поделился с ним своим печальным душевным опытом, он прибег к аналогии из физического мира: у всякого соблазна есть своя сфера тяготения, и бродить мыслью возле ее пределов — значит подвергаться опасности подпасть под его тяготение. Но я перевел это на свой собственный язык; и уже гораздо позднее, в страшную пору моей жизни, когда у меня уже не было друзей, а родные стыдились родства со мною, — я определил это заповедью «не гляди на грех».
— Тут пропуск, па, — сказала Маро, прерывая чтение и подняв на нас задумчивые глаза, — и несколько листов вырвано.
— А ты посмотри в конце, — ответил Фёрстер.
В конце оказалась предсмертная приписка бедного Лапушкина, карандашом:
«Все погибло. Не хочу никого винить, но лучше умереть, чем снова поглядеть в ту сторону. Помолитесь за меня и простите».
Так кончалась рукопись. В продолжение чтения передо мной, как живое, стояло сморщенное, лысое личико Лапушкина в старенькой ермолке, его пугливый, настороженный взгляд и его жалобный детский носик пуговицей. И в нем было дитя когда-то, — но невинный ребенок стал гаденьким старикашкой, и никто не взял его за руку, чтоб помочь пройти по жизни, пока он сам не вывел себя из нее.
— Как страшно иметь детей, — сказала после некоторого молчания Маро, — нужно не спускать с них глаз ни на минуту и в каждом пустяке уметь обходиться с ними безошибочно. А сами-то мы только в конце узнаем, что было нужно и что не нужно.
— Ну и мудрить тоже не к чему, — неожиданно вмешалась Варвара Ильинишна, — ребенок не без совести, сам знает, что хорошо, что плохо, а не знает — так узнает. Мы вот тебя никогда на цепочке не держали.
— Мудрое это написание, — задумчиво проговорил отец Леонид, отрываясь от своей папироски и подняв очки на лоб. — Самому на исповеди говорить доводилось: враг силен и коли слабым прикидывается, значит, еще сильнее; ты же закрой глаза и не гляди, ничем ты его так не обескуражишь, как неглядением.
— Совершенная правда! — раздалось из угла, где мы неожиданно увидели Залихвастого. — Истинная правда, отец Леонид! И еще лучше, зажмурясь, класть себе крестное знамение между бровей, право слово. Я вам что скажу, отец Леонид. Намедни, как вышли мы с вами…
Но батюшка величественно встал и пухленькой ручкой махнул на Залихвастого. Разговор был окончен. Карл Францевич повел батюшку к себе, где ему приготовлена была постель, а мы с Залихвастым отправились во флигель. Спутник мой был вертлявый, скудоволосый и франтоватый молодой человек, мало похожий на дьякона. Глазки у него были узенькие, монгольские, нос утиный, в угрях, а щеки до того поджарые, что казалось, они ушли внутрь из боязни пощечины. Говорил Залихвастый, задыхаясь от поспешности, и, видимо, сам себя в эту минуту стыдился, но молчать он все-таки не мог.