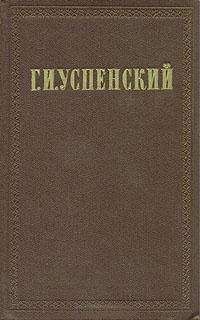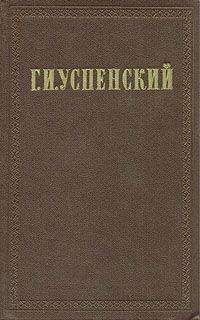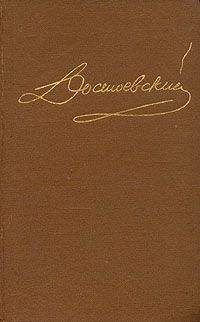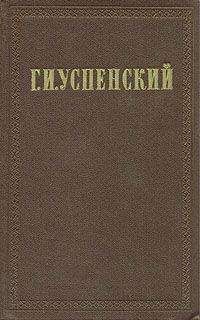Глеб Успенский - Очерки и рассказы (1862-1866 гг.)
Разговоры плелись вяло: вспоминали родных, причем дьякон всякий раз с умилением взглядывал на меня и, качая головою, говорил:
— Ах, боже мой, ах, боже мой, — я все гляжу-гляжу, — какая измена в лице? а как скоро время-то? Подумаешь — господи! Кажется, одна минута! — и т. д. Этому вторила и дьяконица, не менее своего супруга ахавшая и ужасавшаяся быстроте полета времени. Надоедало толковать о родственниках, — принимались благодарить бога за сегодняшний дождь; посадская мещанка и Семен Матвеич особенно плодовито говорили на эту тему: гречи, сена, овсы и проч. не сходили у них с языка; и нужно сказать правду, поэтический Семен Матвеевич умел заставить полюбить эти овсы и гречи человека, ничего не разумеющего в хозяйстве: так хорошо умел он изобразить благодать, посланную дождем, — не указывая на рыночные результаты этой благодати. Иногда разговор отклонялся от этих хозяйственных предметов, — и дьякон с Семеном Матвеевичем затевали Какой-нибудь спор, заставлявший дьякона восклицать:
— Ну да, так, так: по-вашему, мы выходим все дураки…
Вообще Семен Матвеич был героем вечера, и когда, наконец, все присутствующие в комнате замолкли, — он все-таки продолжал говорить, не переставая. На этот раз он с особенным увлечением восхвалял деревенские прелести:
— В деревне-то скучно? — говорил он. — Никогда! Да знаете ли, что из города-то я ушел? Просто убежал… Не могу! Хоть убей! Да как же-с? Как же не убежать-то? И семинарию бросил… убежал… Жить нельзя — мука… Есть нечего, зубри… Зимой — холод, живешь в яме… К чиновнику придешь; поясница болит, рожа зеленая, кряхтит, слова сказать не о чем. Думаю; да что я? из-за чего в самом деле? Да лучше я в деревню конторщиком: по крайности сыт всегда… Какие такие мне надобны дворцы? Ничуть не бывало! Заведу собаку, ружье, что мне? Зимой натоплю избу — знать никого не хочу… Мужиков набьется, — смех. На гармошке примусь — что угодно: пиэсы, "Не белы снеги…" На разные манеры. Думал, думал — драла!.. Там бумаги пишут: "Самовольная отлучка", то, другое… — Болен! — "…По этапу с ссыльнокаторжными, а равно…" — Болен! С тем и отвертелся… Верите ли, как рад-то! Прибежал домой, прямо в траву… Лежал, лежал — обомлел, такая прелесть… Ей-ей… Поле, лес, охота, — где ж скучать-то? Да теперь меня отсюда — ни-и…
Небо темнело; сверчки начинали перекликаться за печкой; ребята дремали. В сенях дьяконская дочь укачивала ребенка, стукая углом люльки в стену; дьякон вспоминал, что завтра чем свет опять с навозом в поход надо. Кто-то из присутствовавших вздыхал. Наставало скучное время будничного, молчаливого и задумчивого вечера.
— А что, Авдотья Ивановна, — отнесся дьякон к жене — не пора ли чего-нибудь этак… того?..
Дьяконица сказала: "сейчас!" и отправилась за перегородку. Скоро оттуда послышалось громыханье ухватов, печной заслонки, треск лучины, и немного погодя яркий свет красного пламени осветил потолок, стену и окно за перегородкой. Старшая дочь накрывала на столе чистую скатерть, расправляя ее рукою, носила тарелки, ложки и вороха хлеба.
— Ну-с, прошу. покорно, — сказал дьякон, когда все было готово. — Не угодно ли. Уж что есть, — не взыщите, бога ради… Сами-то мы кое-как да кое-как, ну, а вот кто-нибудь случится… Да вам водочки не угодно ли?
— Водочки? Можно! — отвечал за всех Семен Матвеич.
— Право; я это сейчас дойду… Напротив…
Дьякон надел шапку, достал из шкафчика в углу маленькую стеклянную бутылку с перечным стручком на дне, засунул ее в карман и вышел в сени, но тотчас же воротился и, всматриваясь в темноту сеней, спрашивал:
— Кто это? Кто тут?
В сенях кто-то тяжело дышал и попадал палкою в стену, щупая дорогу; что-то грохнулось на пол; слышалось ворчанье:
— Ффу, боже мой!.. Никак это я… а-а! да-да-да…
Дьякон подался в сторону; в комнату просунулась рука с палкой, нога, прикрытая рваной полой, и скоро я узнал странную фигуру одного пешехода, который попался мне на большой дороге. Но стоило нам только пристальнее, хоть с минуту, остановиться на этом отекшем лице гостя, его черных глазах, услыхать еще раз звук его голоса, чтобы и я и все находившиеся в комнате узнали в госте Ивана Никитича Медникова, общего родственника, который пропадал до этого времени целые годы неизвестно где. Стоило узнать Медникова, и никто не мог удержаться, чтобы невольно не вздрогнуть при этом, потому что у всех, знавших его, мелькнуло сразу множество самых неприятных — своим печальным смыслом — воспоминаний. Перепугавшиеся дьякон и дьяконица не знали, что сказать. Дьякон, впрочем, кое-как перемогся и, сложив уста в улыбку, заговорил: "Боже мой, боже мой! какая измена в лице!", — но Иван Никитич остановил его строгим взглядом, брошенным искоса, подошел к образу и с театральным жестом делал огромного размера кресты.
— Какая измена в лице! — бормотал дьякон, усаживая гостя за стол. Гость был крепко хмелен и утомлен. Он почти не говорил, а с ним боялись заговорить, потому что не знали, скажет ли он на это что или прямо начнет драться. Никитич сидел, облокотившись локтями на стол, туго поворачивал голову и неподвижно останавливал глаза на ком-нибудь из находившихся в комнате; отрывисто вздыхал, как вздыхает тяжело пьяный человек, бормотал "мм-дда!", или вдруг запускал руку в карман, выворачивал его, вытаскивал оттуда копейку и вместе с кучей сора, наполнявшей карман, вываливал ее на стол; потом упирался пальцем в эту копейку, нахмуривал брови, думал и вдруг снова брал все это в горсть и тащил к себе, вместе со скатертью. Всё это видели в Никитиче и прежде, во всем этом не могли ничего понять, но боялись дохнуть, потому что знали, что Никитич может вдруг раскроить голову. Немало изумились дьякон и дьяконица, увидев, что Медников уплел целую сковороду яичницы, несмотря на то, что были Петровки и что Медников был лицо духовное. Едва выпил он рюмки две водки, как глаза его почти тотчас же из мутно-пьяных приняли грозное, ненавистное, давно знакомое нам выражение. Дьякон опасался грозы, ибо чувствовал, что она может последовать каждую минуту, и мучился еще тем, что положительно не знал, за что она может последовать, не знал, с какой стороны и в каком роде угождать Никитичу. Поэтому он кашлянул слегка и, осторожно придвигаясь к гостю, заговорил:
— Отдохнули бы, Иван Никитич, чай, с дороги-то…
Иван Никитич устремил на него упорный взгляд, но дьякон, устояв кое-как под напором этого взгляда, потихоньку пропускал ему руку под локоть и продолжал;
— Право! Опять же и время, да и мы-то…
Пока дьякон возился, укладывая спать ворчавшего басом Медникова, вся остальная братия собралась на крылечке — посидеть. Ночь была темная, дул ветер, и по небу неслись стаи дождевых туч; по временам кое-где тучи эти разрывались, пропускали в образовавшуюся прогалину клочок светлого пространства и смыкались снова. В избах и постоялых дворах светились еще огоньки, отбрасывая на стекла окон тени ужинавших извозчиков; у ворот постоялых дворов висели фонари с сальными огарками, оттопыриваясь на коротких гвоздях и освещая снизу пучок трепавшегося по ветру ковыля. Баба-дворничиха зачем-то вышла на крыльцо со свечкой; огонек свечи, казалось, только горел яркой звездочкой во тьме, но не светил далеко. Колеса медленно проезжавшей повозки застучали по бревенчатому мостику, перекинутому через шоссейную канаву, и чуть слышно покатились по земляной дороге мимо постоялых дворов. Спустя немного слышался разговор:
— Самоварчик-с? Можно… можно… Это сколько угодно…
— Нет, самовара не нужно…
— Ну, как вам будет угодно… Как угодно-с… А то, ежели в случае чего самовар потребуется, — так это в одну минуту… Потому у нас в трубу произведено… когда угодно…
— Нет, самовара не нужно…
— Не нужно? Ну, как угодно… Это как вам будет угодно… Конечно… Я к тому говорю, в случае ежели самовар потребуется, например…
— Почем овес?..
— Ах, боже мой! Неужто ж мы… Что мы такое? Господи боже…
— Почем овес-то?
— Да будьте покойны, сделайте милость… Аль мы что-нибудь… Что с других, то и с вас…
— С других-то это ты сколько хочешь… С нас-то сколько?
— Да будет вам… О господи боже мой… Чай, по времени-то сами знаете… Сами тоже деньги какие платим… Пятьдесят копеичек…
— Э-э-э!..
Слышны удары кнута.
— Стой! стой!.. Куда же вы?.. Позвольте…
— Н-но, идол… э-э-э…
Колеса снова стучат по шоссе. Удары кнута повторяются в усиленной степени.
— С пятаком за Дунай поехал, — грубо заключает мужеской голос.
Дьякон вошел на крыльцо и опустился на лавку.
— Ффу, боже мой… Устал. И какой беспокойный этот Медников… даже совершенно утомился… Ей-богу:.. "Послушай да погоди…" — "Спите, говорю. Сделайте ваше такое одолжение…" — "Прости меня…" — "Будьте покойны… Спите… Что такое? в чем?" — "Прости… виноват…" Чудак…