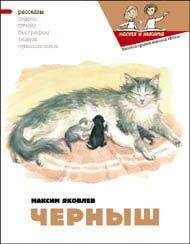Максим Горький - Том 20. Жизнь Клима Самгина. Часть 2
— Что ж вы думаете сделать с ним? — спросил Самгин, понимая, что спрашивает и ненужно и неумно;
Дунаев тоже спросил:
— А — где я его возьму? Если меня не посадят, конечно, я поговорю с ним.
Он уже не улыбался, хотя под усами его блестели зубы, но лицо его окаменело, а глаза остановились на лице Клима с таким жестким выражением, что Клим невольно повернулся к нему боком, пробормотав:
— Да… конечно.
— Прощайте. Так вы сейчас же…
Он снова улыбался своей улыбочкой, как будто добродушной, но Самгин уже не верил в его добродушие. Когда рабочий ушел, он несколько минут стоял среди комнаты, сунув руки в карманы, решая: следует ли идти к Варваре? Решил, что идти все-таки надобно, но он пойдет к Сомовой, отнесет ей литографированные лекции Ключевского.
Сомова встретила его, размахивая синим бланком телеграммы.
— Лида приезжает, понимаешь? Ты что какой? Торопливо рассказывая ей об арестах, он чувствовал новую тревогу, очень похожую на радость.
— Ну, — живо! — вполголоса сказала Сомова, толкая его в столовую; там сидела Варвара, непричесанная, в широком пестром балахоне. Вскричав «Ай!» — она хотела убежать, но Сомова строго прикрикнула:
— Глупости! Где у вас нелегальщина? Письма, записки Маракуева — есть? Давайте всё мне.
Она увлекла побледневшую и как-то еще более растрепавшуюся Варвару в ее комнату, а Самгин, прислонясь к печке, облегченно вздохнул: здесь обыска не было. Тревога превратилась в радость, настолько сильную, что потребовалось несколько сдержать ее.
«Прежние отношения с Лидой едва ли возможны. Да я и не хочу их. А что, если она беременная?»
Но тотчас же после этого он подумал:
«Если б меня арестовали, это, наверное, тронуло бы ее».
Выскочила Сомова с маленькой пачкой книжек в руке и крикнула в дверь комнаты Варвары:
— А письма в печку!
Она исчезла, заставив Самгина мельком подумать, что суматоха нравится ей. Варвара, высунув из двери улыбающееся, но сконфуженное лицо, сказала:
— Я сейчас, только оденусь.
— К сожалению, мне нужно идти в университет, — объявил Клим, ушел и до усталости шагал по каким-то тихим улицам, пытаясь представить, как встретится он с Лидией, придумывая, как ему вести себя с нею.
Через день, прожитый беспокойно, как пред экзаменом, стоя на перроне вокзала, он увидел первой Алину: явясь в двери вагона, глядя на людей сердитым взглядом, она крикнула громко и властно:
— Носильщик! Вы ослепли?
В черном плаще, в широкой шляпе с загнутыми полями и огромным пепельного цвета пером, с тростью в руке, она имела вид победоносный, великолепное лицо ее было гневно нахмурено. Самгин несколько секунд смотрел на нее с почтительным изумлением, сняв фуражку.
Она поздоровалась с ним на французском языке и сунула в руки ему, как носильщику, тяжелый несессер. За ее спиною стояла Лидия, улыбаясь неопределенно. маленькая и тусклая рядом с Алиной, в неприятно рыжей шубке, в котиковой шапочке.
— Здравствуй, — сказала она тихо и безрадостно, в темных глазах ее Клим заметил только усталость. Целуя руку ее, он пытливо взглянул на живот, но фигура Лидии была девически тонка и стройна. В сани извозчика она села с Алиной, Самгин, несколько обиженный встречей и растерявшийся, поехал отдельно, нагруженный картонками, озабоченный тем, чтоб не растерять их.
В номере гостиницы, покрикивая так же громко, как на вокзале, Алина приказывала старику лакею:
— Дедушка — самовар! И — закусить побольше, по-русски, по-купечески. Сообрази: почти два года прожила за границей!
— Понимаю-с, — сказал старик, отечески радостно улыбаясь ей.
Лидия заняла комнату, соседнюю с Алиной, и в щель неприкрытой двери Самгин видел, что она и уже прибежавшая Сомова торопливо открывают чемодан.
«Должно быть, привезла Любаше литературу эмигрантов», — сообразил он.
Алина, в дорожном костюме стального цвета, с распущенными по спине и плечам волосами, стройная и пышная, стояла у стола, намазывая горячий калач икрой, и патетически говорила:
— О родина! О калачи! Икра! И — рыбная селянка с капорцами.
В ней не осталось почти ничего, что напоминало бы девушку, какой она была два года тому назад, — девушку, которая так бережно и гордо несла по земле свою красоту. Красота стала пышнее, ослепительней, движения Алины приобрели ленивую грацию, и было сразу понятно — эта женщина знает: все, что бы она ни сделала, — будет красиво. В сиреневом шелке подкладки рукавов блестела кожа ее холеных рук и, несмотря на лень ее движений, чувствовалась в них размашистая дерзость. Карие глаза улыбались тоже дерзко.
— Люблю есть, — говорила она с набитым ртом. — Французы не едят, они — фокусничают. У них везде фокусы: в костюмах, стихах, в любви.
Ее сильный, мягкий голос казался Климу огрубевшим. И она как будто очень торопилась показать себя такою, какой стала-Вошла Сомова в шубке, весьма заметно потолстевшая; Лидия плотно закрыла за нею свою дверь.
— Аля, я через часок ворочусь, — сказала Сомова, исчезая, Алина подмигнула вслед ей.
— Бежит революцию сеять! Люблю эту Матрешку! И, вздохнув, спросила:
— Ты — тоже сеешь? Бунтовал? Через минуту она осведомилась:
— С Туробоевым встречался?
А еще через несколько минут рассказывала, не переставая есть:
— Уже в конце первого месяца он вошел ко мне в нижнем белье, с сигарой в зубах. Я сказала, что не терплю сигар. «Разве?» — удивился он, но сигару не бросил- С этого и началось.
Выпив рюмку рябиновой водки и вкусно облизав яркие губы, она продолжала, тщательно накладывая ломтики семги на кусок калача:
— Вообразить не могла, что среди вашего брата есть такие… милые уроды. Он перелистывает людей, точно книги. «Когда же мы венчаемся?» — спросила я. Он так удивился, что я почувствовала себя калуцкой дурой. «Помилуй, говорит, какой же я муж, семьянин?» И я сразу поняла; верно, какой он муж? А он — еще: «Да и ты, говорит, разве ты для семейной жизни с твоими данными?» И это верно, думаю. Ну, конечно, поплакала. Выпьем. Какая это прелесть, рябиновая!
Выпив, она удивительным движением рук и головы перебросила обильные волосы свои на грудь и, отобрав половину их, стада заплетать косу.
— Среди своих друзей, — продолжала она неторопливыми словами, — он поставил меня так, что один из них, нефтяник, богач, предложил мне ехать с ним в Париж. Я тогда еще дурой ходила и не сразу обиделась на него, но потом жалуюсь Игорю. Пожал плечами. «Ну, что ж, — говорит. — Хам. Они тут все хамье». И — утешил: «В Париж, говорит, ты со мной поедешь, когда я остаток земли продам». Я еще поплакала. А потом — глаза стало жалко. Нет, думаю, лучше уж пускай другие плачут!
Перестав жевать и говорить, она задумалась, глядя в окно через голову Клима. Ему красота Алины казалась уже подавляющей и наглой.
«Сомова метко сказала: солдатская вдова».
Вошла Лидия, одетая в необыкновенный халатик оранжевого цвета, подпоясанный зеленым кушаком. Волосы у нее были влажные, но от этого шапка их не стала меньше. Смуглое лицо ярко разгорелось, в зубах дымилась папироса, она рядом с Алиной напоминала слишком яркую картинку не очень искусного художника. Морщась от дыма, она взяла чашку чая, вылила чай в полоскательницу и сказала:
— Налей крепкого.
— Но все-таки — порода! — вдруг и с удовольствием сказала Алина, наливая чай. — Все эти купчишки, миллионеришки боялись его. Он их учил прилично есть, пить, одеваться, говорить. Дрессировал, как собачат.
Самгин чувствовал себя неловко, Лидия села на диван, поджав под себя ноги, держа чашку в руках и молча, вспоминающими глазами, как-то бесцеремонно рассматривала его.
«Ни о чем не спрашивает, но, конечно, заряжена вопросами», — едко подумал он.
Заплетая другую косу, Алина сказала:
— Познакомилась я с француженкой, опереточная актриса, рыжая, злая, распутная, умная — ох, Климчик, какие француженки умные! На нее тратят огромные деньги. Она мне сказала: «От нас, женщин, немногого хотят, поэтому мы — нищие!» Помнишь, Лида?
— Что? — рассеянно спросила Лидия.
— Как ты спорила с нею и она сказала…
— Да, помню, как же! Она очень умная, очень!
Это она проговорила быстро и так, что Самгин понял:
Лидия не хочет, чтоб он знал что-то.
«Вероятно, какое-то опереточное приключение русской провинциалки, страдающей ненормальным половым любопытством», — зло подумал он, сознавая, что спешит настроить себя против Лидии.
Она, не допив чай, бросила в чашку окурок папиросы, встала, отошла к запотевшему окну, вытерла стекло платком и через плечо спросила:
— Чем ты так озабочен, Клим?
Ему хотелось ответить какими-то вескими словами, так, чтоб они остались в памяти ее надолго, но он был в мелких мыслях, мелких, как мухи, они кружились бестолково, бессвязно; вполголоса он сказал: