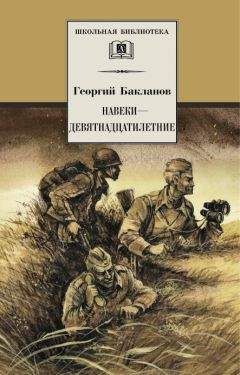Григорий Бакланов - Навеки девятнадцатилетние
-- Точно!-- сказал военком.
-- Он, как знал, с детства левша. Бывало, отец ложку выдернет: "Правой люди едят, правой!" И в школе ему за нее доставалось. А как на финской праву руку оторвало, вот она, лева-то, не зря и пригодилась.
И опять военком сказал:
-- Точно!
Круглые его глаза сонно усмехались. По выговору был он, наверное, из-под Куйбышева откуда-нибудь; в училище у них старшина, родом из города Чапаевска, вот так же выговаривал: "Точшно".
-- Да он в одной левой побольше удерживает, чем другой в двух руках! -похвалялся братом Василий Данилович, а тот молча позволял.-- Надо тебе сотню врачей -- на другой день сто и выставит. По скольку их каждого готовят в институтах? Лет по пять? По шесть? А он даст двадцать четыре часа на всю подготовку -- и вот они готовые стоят. Надо двести инженеров, двести и выстроит перед тобой!
Иван Данилович слушал, посапывая, дышал носом, сонно усмехался. Качнул головой:
-- Погляди-ко в буфете, может, и ты перед нами выстроишь чего-нибудь?
Василий Данилович заглянул за стеклянную дверцу, вытащил на свет заткнутую пробкой четвертинку водки.
-- Три пятнадцать до войны стоила! Шесть-- поллитра, три пятнадцать-четвертинка. Еще коробка папирос "Казбек" была три пятнадцать.
-- Да ты их курил ли тогда, казбеки-то?-- спросил старший брат.
-- Оттого и запомнил, что не курил. А пятнадцать лишних копеек они за посудину брали,-- как особую хитрость отметил Василий Данилович.-- Это во сколько же раз она поднялась? О-о, это она во сто раз подскочила! -- говорил он, наливая в маленькие рюмки, которые Фая недавно, видно, убрала, а теперь одну за другой ставила, стряхивая предварительно.-- Еще и побольше, чем во сто раз!
И словно теперь только узнав ей настоящую цену, он каплю, не стекшую с горлышка, убрал пальцем, а палец тот вкусно облизнул.
Неловко было Третьякову принимать рюмку. В палате у них кто бы что ни принес, считалось общее. А тут он ясно чувствовал: не свое пьет. Но и отказываться было нехорошо.
Выпили. Фая положила ему капусты.
-- Капустки вот бери, закуси.
-- Спасибо.
И незаметно пододвинул Саше. А она, не ожидавшая этого, покраснела. Братья захохотали.
-- Здорово это у них получатся: он пьет, она заку-сыват!
А Фая, будто сердясь, будто швырком, еще подложила на тарелку.
-- Я не хочу, Фая, правда,-- говорила Саша.
-- Врозь, что ль, положить?
-- Нет, мы вместе.
Они и были вместе сейчас, хоть старались друг на друга не смотреть. И незаметно один другому отодвигали капусту по тарелке. А Фая, подойдя и будто еще больше осердясь, брала в свою руку нечувствительные, скрюченные, вялые пальцы его раненой руки, показывала их Ивану Даниловичу:
-- Чо, он ей навоюет, рукой етой? -- Она, как тряпки, разминала бессильные его пальцы.-- Чо он может ей?
Он отобрал руку, отшутился:
-- У меня, Фая, работа умственная: не пехота, артиллерия. Тут можно вовсе без рук.
-- Ты, может, думашь чего? -- горячо напустилась Фая.-- По закону ведь, по закону! Иван Данилыча, если не по закону, лучше не проси!
И младший брат любимым словцом старшего подтвердил:
-- Точно!
Теперь Третьяков понял, зачем их позвали сюда, что Фая шептала там Саше на кухне. Чудная она, Фая. Ее если сразу не испугаешься, так разглядишь, что человек она хороший. Вот если б можно было дров для Саши попросить. Ну что ж, по крайней мере эту рюмку он мог выпить с чистой совестью.
Иван Данилович, от которого Фая и Саша ждали слова, взял живой, красной, мясистой кистью левой руки деревянный свой протез в черной перчатке, переложил поудобней. Вот и на правой была бы у него такая же сильная, красная кисть. Но, может быть, потому он и жив сейчас, что одна рука у него деревянная. А уж младшего брата наверняка она от фронта заслонила.
-- Ну что, Василий, есть у тебя там или вся? А то пожми, пожми.
И Василий Данилович "пожал", и как раз три рюмки налилось. Крупными пальцами старший брат взял свою рюмку, сказал неопределенно и веско:
-- Который человек кровь свою за Родину пролил, имеет право! И будет иметь!
И первым махнул водку в рот. На улице Саша спросила виновато:
-- Ты не обижаешься на меня? Он улыбнулся улыбкой старшего:
-- Чудные вы обе с Фаей. А я еще понять не мог, чего мы туда идем? Заговорщицы...
-- Но почему всегда-- самые лучшие? Вот и отец мой и Володя бедный. В девятнадцать лет успел только погибнуть. Ты не сердись, что я все о нем говорю. Я вот уже лица его не вижу. Помню, какое оно, а не вижу.
Они подошли к госпиталю. Фонарь у ворот освещал снег вокруг себя.
-- А чего мы туда идем?-- спросил Третьяков.
-- Но ведь тебя искать будут.
-- А я сам найдусь. Саша, дальше фронта не пошлют! Идем к Тоболу. Не замерзла?
И, обрадовавшись, поражаясь только, что им раньше это в голову не пришло, они быстро пошли назад, снег только звенел под его коваными каблуками.
ГЛАВА XXI
С улицы, с мороза, духота в палате показалась застойной. Третьяков осторожно притянул за собой дверь, пошел на носках. Когда глаза начали различать, увидел, раздеваясь, что с соседней кровати, с подушки, улыбается Атраковский. И самому смешно стало, когда увидел со стороны, как он крался в темноте между кроватями.
-- Капитан,-- шепотом позвал он,-- потяните рукав. Атраковский сел на кровати, босые ступни плоско стали на пол. После недавнего приступа был он совсем слабый, почти не вставал. А тогда забегали врачи по этажу, зачем-то внесли ширму из простынь, отделили его от палаты. Он лежал холодный, изредка открывал тусклые глаза.
-- Не напрягайтесь, держите только, держите,-- говорил Третьяков.-- Я сам из него вылезу. Вылез, отдышался, поправил повязку.
-- Спасибо.
-- Курить хочешь?
-- Помираю! Все искурил.
Слабой рукой Атраковский полазил у себя под подушкой, начал надевать халат:
-- Пойдем, я тоже постою с тобой. Все равно не сплю.
-- А чего не спите? Болит?
-- Мысли всякие.
-- Мысли!-- Третьяков радостно улыбнулся. Ему все время отчего-то хотелось улыбаться.-- Думать будем после войны. Вон Старых спит, как святой, ничего не думает.
Старых спал ничком, свесившаяся рука доставала до полу. И ничуть ему не мешало, что рядом с ним шепчутся в темноте. Повернулся на бок, хрястнул сеткой-- он хоть и не высок, а весь, как каменный,-- чмок-нул губами во сне и мощно захрапел. Белый гипсовый сапог высунулся из-под одеяла.
-- Я вот так спал на фронте,-- говорил Третьяков, пряча обмундирование под тюфяк.-- Где приткнулся, там и сплю, сейчас даже удивительно. У нас комбат спал в землянке, снаряд под землянку угодил. Грунт болотистый, снаряд фугасный, ушел в глубину, выбросить землю силы взрыва не хватило, вспучило нары, а он и не проснулся. Утром глядит, земляные нары под ним горбом. Вот я тоже так спал. А здесь и вшей нет, и как будто что-то кусает по целой ночи. Меня тут не хватились?
-- Нет.
Раскатав тюфяк поверх обмундирования, Третьяков надел халат.
-- Пошли?
Свыкшиеся с темнотой глаза резанул по зрачкам свет в коридоре. Отошли к операционной, к дальнему окну. Отсюда видны были огни вокзала, огни на путях. Окно это было такое же, как все, а вот около него почему-то происходили самые откровенные разговоры. И с Сашей они тут сидели.
Третьяков так долго не курил, что от первых затяжек на всю глубину легких ударило в голову и губы занемели. Он смотрел в окно и сам себе улыбался, не замечая. А на Атраковского хорошим от него веяло. При нем привезли этого мальчика, на глазах оживал. Щеки синеватые с мороза-- от госпитальной жидкой кормежки во всех в них кровь не греющая,-- а улыбается, весел. Но даже когда улыбается, есть во взгляде серьезность, глаза повидавшие. Он и жалел его и завидовал.
В сорок первом году, когда сам он, раненный, попал в плен и гнали их под конвоем, увидел он с холма всю колонну. Прошел дождь, солнце светило предвечернее, свет его был такой щемящий, словно не день, а жизнь догорает. И по всей дороге под автоматами брели пленные, растянувшийся, колышущийся строй. А там, куда их гнали, посреди голого болота, сидели люди, сотни, может быть, тысячи людей, земли под ними не было видно: головы, головы, головы, как икра. Вот такие мальчики, стриженные наголо, сколько из них могло бы сейчас жить. Впервые тогда он понял, увидав, как мало в этой войне значит одна человеческая жизнь, сама по себе бесценная, когда счет идет на тысячи, на сотни тысяч, на миллионы. Но вот эти так мало значащие жизни, эти люди, способные в бою сражаться до последнего, а там доведенные до того, что скопом, отпихивая друг друга, кидались на гнилые очистки, и охрана, сытые молодые солдаты, забавы ради, потому что это позволено, можно, лениво стреляли в них из-за проволоки,-- вот эти люди, а не какие-то особые, другие и есть та единственная сила, способная все одолеть. С какой беззаветностью, с какой готовностью к самопожертвованию подымается эта сила всякий раз в роковые мгновения, когда гибель грозит всему.
Там, в плену, был с ним летчик, вот такой же мальчик, постарше немного. Его подбили над самой целью, над переправой, куда он один долетел. И он, не дрогнув, направил свой самолет в железнодорожный мост, на верную смерть. И жив остался, отброшенный взрывом. Он умер от заражения, а до последнего момента все мечтал бежать из плена. И тоже, если б бежал, доказывал бы, что никого не предал, не изменил, как не раз приходилось это доказывать Атраковскому, и тоже осталось бы на нем незримое, несмываемое пятно.