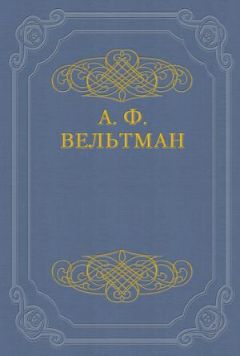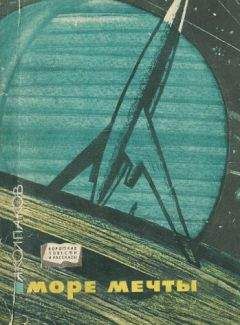Александр Вельтман - Кощей бессмертный
— Ляхи да Литва, осударыня, — вскричал один Боярин, — нелепее уже Татар! Бирючь, Татара, взял свою виру по обычаю, да и седи в упокое; коли, коли Мурзе на поклон ити; а Литвины скору сняли! Что Весь,[210] то полк Ляхский, что изба, то шляхта!
— Тс, — сказал хозяин разгорячившемуся гостю своему, показывая на Литовского Хоронжаго, который был на другом краю горницы.
Но Пан Хоронжий, Воймир, слышал нечестные слова; он подошел к гостю, который поносил Литву, и, закрутив усы, произнес гордо:
— Пане, Татары поплениху стары Кыев и вся власти Руси; как черны мрак гро зе все зе мли; для че го взмолиху се жалостиво до Гедимина, би спа сал от Та тар злостивых и крутых? Для чего пришел Гедимин и мечом Кублаева сына захва ти, и опростал Русску земе от вргов лютых?
— Не Кублаева сына мечом захватил Гедимин, а Киевские власти! Чи ли побиты Татары? Чи ли упразднилась Русь и вся земля от нечестивых, коли Гедймин нашими пенязи дань уплатил Татарскому Хану и искупил главу свою за Кублая?
Хозяин видел, что слова поселят размирье между гостями; перервал разговор.
Воймир закрутил усы, тряхнул мечом, перепоясанным на кунтуше с откладными рукавами, стукяул кованым каблуком о каблук своих желто-сафьянных сапогов и вышел.
Воймир с отрядом легких всадников давно уже стоял в Веси Новоселье. Часто бывал в доме Боярина и терпеливо слушал рассказы старика о подвигах его собственных и о подвигах его предков, служивших Князю Юрию.
Воймир видел не в первый раз дочь Боярина, и Мириана знала Воймира.
А ему нравилась она — вся без исключения.
IX
Между тем как в светлой горнице Боярина гости занялись шумной беседой и начинался второй разнос угощенья; Мириана возвратилась в свой терем и села подле оконца. Ее няни засмотрелись на гостей; она была одна.
Солнце скрылось уже за Днепром, вечер был тих.
Мириана задумалась: ее хотят выдать замуж, не "просясь у ее сердца. Может быть, ему уже мил кто-нибудь?
Вот Мириана слышит тихие звуки голоса; кто-то под окном ее, в тени развесистых вязов, Напевает песню; не на родном ей языке, но понятном ее сердцу:
Вздую ве тржи, буйны ветржи вздую!
Взбурилем-се дух и сердце,
Радость как слуне чко за йде!
В нядре, ту, стена нье жалостиво,
Те пла крев оле дила, пома рзла!
Мо е мила, ма милишка диева,
Юж отда е сердце й веру другому!
Не! не мо ге де ле жизню тра ти;
Душа мо я душица, отлети!
Сыра, хладна зе ме, пий кревь те плу мою!
Дьева, дьева, богзмилена дьева!
Розену и стройну кра су сье йсе![211]
Вла сы златоствуйчи вье вье, вьевье,[212]
Зира як слуне чко, очи небе ясне,
Лице беле, на лице же румянцы!
Дьева на — дивь слична, мила ве ле!
Дай ми, дай ми верну свою руку!
Объял бы ти, девче, пръжал бы ти к сердцу!
Вступи на ножицу, вступи на белитку!
Ко нечик-се в густей трави па се;
Седим на конику, прытко: сердце к сердцу,
Отъедем с тобою во краины дальни!
Песнь утихла.
— Мириана!
— Воймир!
Воймир что-то говорит тихо, тихо.
Ответ Мирианы еще тише.
Высокий терем, разжелезенное[214] оконце стерегут Мириану.
X
Во время второго разноса угощенья Боярин и жена его занялись Миной Ольговной, увели ее в одриную горницу, и между ними начались разговоры.
Так как молодыми людьми в старину занимались менее, нежели теперь, то и на Иву Олельковича, кроме его родимой, никто не обращал особенного внимания.
Во все время он вел себя по заповеди своей родительницы; сидел смирно и молчал; только одна соседка старушка побеспокоила его нескромным вопросом: не из-под Кыева ли он?
— Нетуть! — отвечал Ива и продолжал осматривать всех с ног до головы и сравнивать свою одежду с одеждою прочих гостей. В подобном рассеянном состоянии чувств у него вышла из памяти и невеста; он еще не был побежден ее красотою.
Когда хозяева, а вслед за ними и Мина Ольговна, кончив переговоры, показались в светлице, на дворе уже смерклось. Гости заторопились домой.
Мина Ольговна также оправила на себе ожерелок, накинула япончицу, подняла сына со скамьи, вложила ему в руку шапку и стала прощаться.
С особенным вниманием провожали ее: хозяйка до дверей сенных, а хозяин до крыльца. На слова:
— В неделю прошаем на красный калач.[215]
— Ваши гости! — отвечала Мина Ольговна и села в повозку.
— С Ивой Олельковичем! — продолжал Боярин, обнимая будущего своего зятя, который уже надел свою шапку.
— Ваши гости, — повторила Мина Ольговна.
Уселись; поехали; заскрыпели опять колы[216] у повозки.
Скоро скрылась из глаз едва уже видная звонница Новосельская, слились с темнотою ночи и дом Боярина, и Весь его.
Мина Ольговна, занятая размышлением о судьбе сына, молчала; Ива дремал; повозка скрыпела; кони провожатых топотали ногами. В отдалении, влево, шумел Днепр; вправо шумела дебрь.
Дорога была не дальняя, и потому скоро приехали они домой. Домовины, по обыкновению, встречали их у крыльца, высадили Боярыню и на руках понесли барича. Он спал богатырским сном.
XI
Нужно ли говорить догадливому читателю, что дела с той и с другой стороны ладились как нельзя лучше.
Явились к Боярину Боиборзу Радовановичу сваты с скоморохами, с бубнами и сопелками. И начали они петь:
Как ходил ловец, сударь Ива Олелькович,
По долам, по лесам, по высоким по горам;
Увидал ловец молодую лань,
Златорогую, среброрунную,
Молодую Мириану Боиборзовну!
Как пускал во нее калену стрелу!
Златоперая стрела зашипела, загула.
И попала ей во белую грудь.
Молодая лань златорогая,
Молодая лань среброрунная
Ускочила со стрелой на широк Боярский двор;
По следу ее пришли мы ко тебе, сударь Боярин,
В златоверхий во терем.
Ты, Боярин, наш честной…
Будь ты к нам, осударь, члив и милослив;
Ты отдай младую лань осударю Иве Олельковичу.
— Есть у меня зверь, не знаю, будет ли вам по нраву, — отвечал Боярин сватам…
И точно: вывели к сватам на показ какого-то зверя, закутанного в нескольких шубах навыворот, обвешанного пеленами и покрывалами.
Сваты подходят к нему и поют:
Встрепенись ты, младая лань,
Златорогая, среброрунная!
Ты, младая Мириана Боиборзовна!
— Их!.. — вскричала младая лань и сбросила с себя все шубы и покровы.
— Ух! — вскричали все сваты и разбежались во все стороны.
Вместо младой лани Мирианы Боиборзовны стоит перед ними старая мамка боярышни. Боярин хохочет. Заговорила мамка нараспев:
— Что ж вы, добрые сваты, испугалися, и от лани молодой вы во все концы пометалися? Есть под крылышком моим мило дитятко; а то дитятко заветное, не отдам его я вам за земной поклон. Принесите-тко на блюде сребро, золото; на подносе принесите зелено вино! Да вы спойте песнь хвалебную ловцу-молодцу!
У мамки в запасе было в руках серебряное блюдо, каждый из сватов положил по нескольку сребреников.
Она успокоилась; вынесла сватам на подносе питья медвяного; просила их садиться и ждать доброго часа.
Вошла хозяйка. Начались переговоры.
Никто не слыхал, что за речи вели между собою Боярин, Боярыня и сваты. Разрумяненные от хмельного меду, который несколько раз им выносили, они: наконец встали, поклонились земно и на слова Боярина:
— Прошаем в Воскресный день в неделю на красный калач! низменный поклон государыне Мине Ольговне! — поклонились еще несколько раз.
В Воскресный день, в неделю, Мина Ольговна была с сыном своим на обеде в Новоселье. Дело было решено несмотря на то, что будущий зять Ива Олелькович показался Боярину немного прост; но за богатство он полюбил его, а за страсть Ивы к оружию и за воинственный дух прозвал богатырем.
И нельзя было не дать ему этого прозвания: Боярин хвалился Мине Ольговне своим бытьем, возил казать свои Боярские палаты. Когда вошли в камору оружейную, Ива, не говоря ни слова, снял со стены шлем, надел на голову; снял меч, прицепил к поясу, протянул уже руку к налушне, но Мина Ольговна шепотом усовестила его и разлучила со шлемом и мечом. Когда появилась Мириана, чем-то опечаленная, Ива Олелькович замолк и не сводил с нее глаз, не по одному только завещанию матери, но и по какому-то чувству, которое одинаково жжет ум и глупость, сердце нежное и сердце каменное, цветущую молодость и преклонную старость, голову, украшенную светлыми кудрями и покрытую снежными охлопьями.