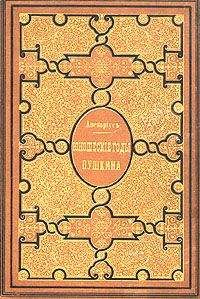Василий Авенариус - Отроческие годы Пушкина
А тут во второй половине октября повалил густой снег, затрещали настоящие русские морозы. Ни тулупов, ни обуви для солдат своих Наполеон не догадался вовремя припасти, — и вот им пришлось кутаться от холода во что попало: и в дорогие шелковые ткани, захваченные с собой из московского Гостиного двора, и в золотые ризы, похищенные из православных храмов, или просто в какое-нибудь ватное одеяло с прорезанною для головы дырой; ноги же они обматывали лохмотьями истасканных казенных мундиров.
Лошади, не различая дороги за сугробами снега, падали в канавы, причем увлекали за собой и экипажи, и орудия; изнуренные донельзя бескормицею, они падали и умирали, а обезумевшие от голода вожатые тут же накидывались на падаль, рвали ее и пожирали, не давая себе даже труда хорошенько прожарить мясо. Наскоро насытясь, эти полулюди-полузвери плелись далее, но недолго: в изнеможении они падали в снег, а вьюга заживо еще заносила их своим белым саваном. На привалах французов, вокруг тлеющих еще костров, наши войска находили груды окоченевших трупов, от которых, при приближении их, живых людей, отлетали с карканьем вороны, отбегали с ворчанием одичалые псы, следовавшие по пятам за гибнувшей армией от самых ворот Москвы.
Она таяла, эта армия, таяла со дня на день, делалась жертвой стихий и непредусмотрительности ее надменного вождя. А сам этот вождь, этот полубог — что сталось теперь с ним! Он, как истукан, рухнул со своей высоты! Никто уже не слушался его; окружающие только стерегли, как бы он не ускользнул вперед; а когда он, чтобы не быть узнанным, вздумал назваться Коленкуром, свита исподтишка трунила над ним, называя его "Colin qui court".[18]
Лицейскому профессору французу де Будри, который за время войны совсем стушевался и стал тише воды ниже травы, пришлось тоже услышать этот каламбур и, конечно, ни от кого иного, как от неисправимого школьника Гурьева. Старик побледнел как полотно, крупная слеза скатилась по его морщинистой щеке; но он не вымолвил ни слова, а только вышел из класса. Зато насмешнику досталось-таки от Пушкина и прочих товарищей!
Они перестали ликовать по-прежнему, когда чаша страданий бегущего неприятеля переполнилась, когда под убийственным огнем наших орудий последние воины победоносной "великой армии" нашли могилу в ледяных волнах Березины и из полумиллионного полчища, победоносно перешедшего за полгода перед тем границу русскую, перебралось обратно за нее не более одной тысячи калек-мародеров.
Теперь Пушкин уже не мог сомневаться в верности предсказания Тургенева о вступлении наших войск в Париж, что действительно и совершилось спустя год с небольшим — 19 марта 1814 года.
Глава XIX
Стихотворные шалости
О чем, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мне мысль какую хочешь:
Ее с конца я завострю,
Летучей рифмой оперю,
Взложу на тетиву тугую,
Послушный лук согнув в дугу,
А там пошлю наудалую -
И горе нашему врагу!
"Прозаик и поэт"Боевая гроза прошла, громы орудий смолкли. Взбудораженная извне лицейская жизнь попала опять в старое русло и потекла по-прежнему — ровно, невозмутимо, журча лишь слегка по временам от встречных небольших подводных камней или от налетного утреннего ветра!
Так, между прочим, оживлению однообразия школьного быта немало способствовало открытие в 1813 году профессором Гауеншильдом приготовительного заведения к лицею. В первое время заведение это помещалось в наемном доме, в предместье Царского Села — Софии; но вскоре оно было переименовано в "благородный лицейский пансион" и переведено в казенный дом рядом с лицеем, после чего лицеисты с пансионерами виделись ежденевно. В числе пансионеров в том же 1813 году был принят и младший брат Пушкина, Лев. Совсем оторванный до тех пор от родной семьи, Александр, понятно, был немало рад этому, но, подобно другим лицеистам, находил нужным относиться к "мальчишкам"-пансионерам, в том числе и к младшему своему брату, с покровительственным снисхождением. Ведь те и двух строк-то рифмованных связать не умели!
А поэтические опыты самих лицеистов все продолжались. К тому же возбужденная в них отечественною войной восторженная любовь к родине сблизила их еще более, как бы сроднила между собой, и в новом лицейском журнале "Юные пловцы" уже мирно уживались прежние литературные соперники: Илличевский и Пушкин. Впрочем, первому из них по-прежнему отдавалась пальма первенства как товарищами, так и профессором Кошанским. В стихотворстве на заданные темы, где требовалось не столько вдохновение, сколько запас рифм, он действительно опережал Пушкина, и упрочению его славы по этой части немало способствовал следующий случай.
Однажды на уроке "стихотворных упражнений" лицеисты должны были описать восход солнца. Самый простоватый и малоспособный из них, Мясоедов, перещеголявший товарищей разве только в одном — в обжорстве, чем заслужил себе кличку Мясожоров, обратился шепотом к общепризнанному уже поэту Илличевскому, сидевшему впереди него:
— Будь друг, Олосенька, выручи! Одну-то, первую строчку я сочинил, но дальше, хоть убей, ни с места…
Тот принял от него из-под лавки тетрадь, прочел написанное, минутку подумал, усмехнулся и живо дописал четверостишие.
— На, получи! Но, чур, не пенять.
— Спасибо, голубчик! — искренно поблагодарил Мясожоров и в радости своей, что так скоро устроил дело, не дал себе даже труда перечесть приписку, а с торжествующим видом замахал по воздуху тетрадкой.
— Николай Федорыч, и я настрочил-с!
— И вы? — изумился Кошанский. — Вы, Мясоедов, сирый и убогий, туда же воссели на крылатого Пегаса?
— А что же-с? Отчего бы и мне на нем хоть раз не прокатиться?
— Правильно, бывает, что и блоха закашляет, что и курица петухом запоет. Лишь бы не выпасть вам из седла. Покажьте сюда.
Профессор только заглянул в тетрадку, как закусил губу, чтобы не выдать своей веселости; прочитав же еще раз, остановил на минутку глаза на Илличевском и обратился затем опять к самозванному автору стихов:
— Итак, эти стихи, Мясоедов, говорите вы, вашего собственного изделия?
— Собственного-с! — был самодовольный ответ.
— И мысль, в них выраженная, также ваша?
— А то как же-с?
— Поздравляю! До сей поры, государи мои, весь мир ученых был иного мнения, изволите видеть, что солнце может восходить с одной лишь стороны света — с востока. А ныне оказывается, что мнение это превратно. Достойному нашему молодому ученому, синьору Мясоедову, принадлежит честь открытия сего великого феномена:
Грядет с заката царь природы…
Весь класс залился смехом, а наивный Мясоедов, лишь теперь смекнувший, что опростоволосился, покраснел, но не только не упал духом, а напротив, — до ушей осклабился и огляделся кругом.
— А что, не остро разве?
— Остро, но обоюдоостро, — осадил его тут же профессор, — стих этот вы просто-напросто украли.
— Украл?
— Да, синьор, у синьоры Буниной, доморощенной тоже поэтессы, у коей одна элегия начинается точно так же:
Блеснул на западе румяный царь природы…[19][20]
— Значит, все же не совсем так, как у меня! — обрадовался уличенный поэт-воришка. — А остальные три строки зато уж как есть мои.
— Так ли?
— Чтобы мне провалиться на этом месте!..
— Ой, провалитесь… Читать дальше или нет?
— Читайте.
— Сама себя раба бьет, что не чисто жнет. Я умываю руки. Итак:
Грядет с заката царь природы,
И изумленные народы
Не знают, что начать:
Ложиться спать или вставать?
Теперь стекла в окнах задребезжали от громогласного хохота молодых слушателей.
— Ай да Мясожоров! Отличился!
Самодовольная улыбка на губах Мясожорова так и застыла в виде кисло-сладкой гримасы.
— Вот это, точно, остро, — заговорил опять Кошанский. — Недаром соученики ваши загрохотали. Но в сей последней остроте вы неповинны, яко младенец новорожденный. Виден сокол по полету. Прибавка оная ваша ведь, Илличевский, а?
— Моя, каюсь, — не без тайной гордости сознался подлинный автор.
— За поведение надлежало бы вам баллика два сбавить. Ну, да экспромт ваш был столь изряден, что на сей раз грех вам отпущается: грядите с миром.
Такой успех случайной шутки до того поощрил Илличевского, что он с этого времени стал преимущественно упражняться в подобного рода стихотворных шалостях; а Мясоедов, с своей стороны, позаботился дать ему для того еще новую пищу. Желая отплатить насмешникам-товарищам и доказать им, что он может, коли захочет, и сам сложить пару-другую рифмованных строк, Мясоедов написал целую басню «Ослы». Но басня эта, прочитанная им вслух в классе Кошанского, вызвала со стороны последнего вместо похвалы только следующую нелестную цитату из Державина: