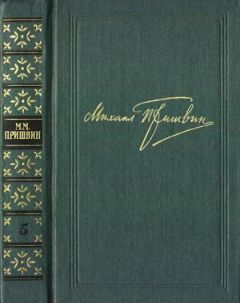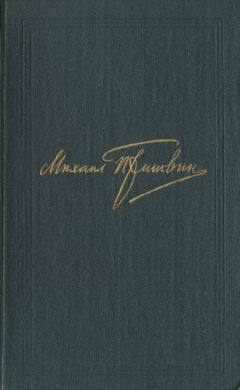Влас Дорошевич - Литераторы и общественные деятели
Купеческая Москва любит восхищаться делячеством и способна приходить в восторг от очень уж ловкого фортеля, даже если от него и не совсем хорошо пахнет:
— Всё-таки молодчина!
По купечеству многое прощается.
Г. Г. Содовников был ловкий делец, но даже и это в нём не вызывало ни у кого восторга.
Уж слишком много лукавства было в его делячестве.
— Знаете, как «папаша» пассаж-то свой знаменитый выстроил? История! Заходит это Гаврил Гаврилыч в контору к Волкова сыновьям. А там разговор. Так, известно, языки чешут. «Так и так, думаем дом насупротив, на уголку купить. Да в цене маленько не сходимся. Мы даём 250 тысяч, а владелец хочет 275. В этом и разговор». Хорошо-с. Проходит неделя. Волкова сыновья решают дом за 275 тысяч купить. Едут к владельцу. «Ваше счастье. Получайте!» — «Извините, — говорит, — не могу. Дом уж продан!» — «Как продан? Кому продан?» — «Гаврил Гаврилыч Солодовников за 275 тысяч приехали и купили.» — «Когда купил?» — «Ровно неделю тому назад!» Это он прямо из конторы!
— Ух! Лукав!
— Нет-с, как он пассаж свой в ход пустил! Вот штука! Построил пассаж, — помещения прямо за грош сдаёт. «Мне больших денег не надо. Был бы маленький доходец». Торговцы и накинулись. Магазины устроили, — великолепие. Публика стеной валит. А Гаврил Гаврилыч по пассажику разгуливает и замечает: к кому сколько публики. А как пришёл срок контрактам, он и говорит: «Ну-с, публику к месту приучили, — очень вам признателен. Теперь по этому случаю, — вы, вместо 2 тысяч, будете платить шесть. А вы вместо трёх и все десять». Попались, голубчики, в ловушку. Он их и облупливает. Стонут!
— Он уж охулки на руку не положит!
— Шкуру с кого хошь спустит!
И вдруг, — на изумленье всей Москве, — Г. Г. Солодовников был произведён в действительные статские советники за пожертвования на добрые дела.
— Ну, дожили до генералов! Солодовников — ваше превосходительство!
— Хе-хе-с! Стало быть, время такое пришло! Солодовников — «генерал от доброго сердца!»
— Гаврил Гаврилыч «генерал от щедрости»!
И Москву утешало одно:
— С большой ему неприятностью это генеральство пришлось!
В Москве строили клиники.
Купцы и купчихи охотно жертвовали сотни тысяч.
— На клинику по нервным болезням? Ах, я с удовольствием на нервные болезни!
— Хирургическая? И на хирургическую дадим.
Но на клинику по венерическим болезням не соглашался дать никто.
— Клиника по венерическим болезням имени такого-то, — или особенно такой-то!
Ужасно приятно звучит! Купцы ни за что:
— Вся Москва зубы проскалит!
В Москве это всегда звучало страшной угрозой.
— Проходу не дадут. «Ты чего ж это так особливо венерическим-то сочувствуешь?»
Никто не хотел жертвовать на «неприличную» клинику:
— Срам!
Гаврила Гаврилыч в то время усиленно домогался генеральства.
Ему и предложили:
— Вот вам случай сделать доброе дело!
Делать нечего! Пошёл Солодовников на дело, от которого отворачивались все.
Москва «проскалила зубы» и принялась рассказывать анекдоты про «его превосходительство»
— Хлебом его не корми, только «превосходительством» назови!
Заключая контракт с нанимателем магазина, он читал договор, бормоча про себя:
— Тысяча восемьсот такого-то года, такого-то месяца, числа, мы, нижеподписавшиеся, купец такой-то, с одной стороны, и…
Тут он поднимал голос и отчеканивал громко, ясно, отчётливо:
— …действительный статский советник Гавриил Гавриилович Солодовников, — с другой…
Дальше опять он бормотал как пономарь:
— …В следующем: Первое: я купец такой-то… Второе: я купец такой-то… Третье… Четвёртое: я…
Он снова поднимал голос и читал громко и с расстановкой:
— Действительный статский советник Гавриил Гавриилович Солодовников…
Он был смешон, жалок и противен Москве, — этот выкрашенный в ярко-чёрную краску старик, ездивший на паре тощих, худых одров.
Москва ненавидела его, и он боялся людей: никогда не ходил по улице пешком.
Про его скупость, про бедность, в которой он жил, рассказывали чудеса, жалкие и забавные.
Это был Плюшкин, — старик, сидевший в грязном халате, в убогой комнате, среди старой, драной мебели, из которой торчали пружины.
А денежное могущество, настоящее могущество, благодаря которому он держал людей в железном кулаке, окружало Плюшкина мрачным, почти трагическим ореолом.
От него веяло уже не Плюшкиным а скупым рыцарем.
Вот вам современный скупой рыцарь.
На него работают не какая-то там вдова и ночной разбойник с большой дороги.
Его состояние не в глупых круглых дублонах, которые блестят, не светят и не греют в подвалах, в верных сундуках. Его состояние в «вечно живых» акциях.
— Акция-с! Я на сундуке сижу-с, а подо мной там акция живёт — и безмолвно работает-с! Живёт-с, шельмочка! Как картофель в погребе прорастает-с! Мёртвая, кажется-с, вчетверо сложена, лежит, притаилась, словно змея-с, что в клубок свернулась и замерла. А в ней жизнь переливается. Живая-с! Даже жутко… Тронуть их-с, а там где-то люди запищали. Пуповина этакая, человеческая. Оторвёшь, и истекут кровью-с!.. А ведь с виду-то? Так бумажка… Лежит, а на ней купон растёт. И невидимо зреет-с! Наливается. Как клопик-с! Налился, созрел, — сейчас его ножничками чик-с. А в это время другой шельмец купон уж наливаться начал! В другой купон жизнь перешла. Как гидра-с! Хе-хе! Ей одну башку срежешь, а у неё другая вырастает! И этак без конца-с! Там люди бьются, работают, в огне пекутся, на стуже стынут, мыслями широкими задаются, вверх лезут, срываются и падают и вдребезги расшибаются. И всё на меня-с работает! Всё! Работайте, миленькие! Контракт на вас имею. На всё, что вы сработаете, контракт имею. Акция!
Современный скупой рыцарь со своим «портфелем верным» похож на хозяина кукольного театра. Он держит в своих руках пучок ниток, на которых висят марионетки. Дёрнет, — и заплясали, как он хочет.
Вот вам современная «сцена в подвале».
Представьте себе такую фантастическую картину.
В убогой, грязной комнате, на продранных стульях, вокруг большого стола сидят десять бедно одетых барышень и, полуголодные, перебирают миллионы.
На столе — кипы «живых» бумаг.
Тишина, только щёлкают, щёлкают без умолку ножницы. И мимо рук этих голодных сыплются, сыплются, сыплются деньги.
Старик в грязном засаленном халате сидит и зорко смотрит за миллионами и за нищими.
Солодовников мог думать в эти минуты:
— Я царствую! Какая волшебная радуга! Жёлтые, красные, голубые купоны. Вот этот — ярославский! Директор там хлопочет! Я знаю, в замыслах широк он. Зарвался, кажется? Да ничего! Он извернётся! Связи есть! И мне купон мой оправдает. Работай, брат, работай! Как угорь в камнях вьётся, вейся! Работа вся твоя, мечты и связи, — всё-всё купоном станет! А вот купон казанский! Рязанским прежде был! Я помню, как правленье избирали, — ко мне пришли: «Нельзя ли на прокат нам акций. Для выборов»! Я знаю судьбу людей, — каких людей! Орлов! — держу в своих руках. Тряхнуть мне стоит, — посыплются! Да мне-то что! «Возьмите!» Десятков несколько тысченок за прокат мне принесли! Пусть воздухом бумажки верные подышат. «Возьмите на денёк». Я царствую! Какая радуга волшебная кругом! И скольких человеческих хлопот, трудов, усилий, жизней, — купон! — ты легковесный представитель!
И вот после долгих лет могущества и боязни богатства и лишений, мелкого честолюбия и наживательства, пришла смерть.
Среди запаха лекарств в комнате повеяло запахом разрытой могилы.
Его превосходительство, накрашенный старик, послал за нотариусом.
Настала минута большой общественной опасности.
Человек, у которого 48 миллионов, представляет собою уже общественную опасность.
Это нечто в роде порохового погреба среди жилых домов.
И когда умирает такой человек, это — всё равно, что в пороховом погребе поставили без подсвечника горящую свечку.
Сейчас огарок догорит, и какая катастрофа произойдёт!
48 миллионов. Какую массу тьмы можно распространить, какую массу света! Сколько счастья можно разлить на тысячи людей, — или, оставив всё одному-двум, — поставить людям одну-две новые кровесосные банки.
Момент был торжественный и в общественном смысле страшный.
Смерть стояла около и дышала могилой в лицо.
…Любезному сыну моему — 300 тысяч. Другому… ну, этому будет и ста… Брату… С ним я в ссоре… Брату ничего… Имущество ликвидировать. Продать всё, да не сразу! А так лет в десять, в пятнадцать. А то продешевишь. На биржу нельзя выбрасывать такую уйму акций. Упадут…
Это говорил его превосходительство Гаврила Гаврилыч, которого знала вся Москва, делец, который уже умирал.
А теперь заговорила бессмертная душа, которая не умирает даже тогда, когда человек живёт и, казалось бы, совсем погряз в мелочах жизни.