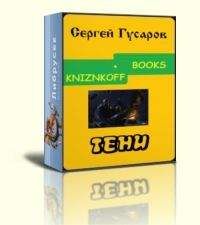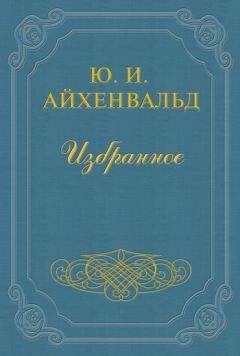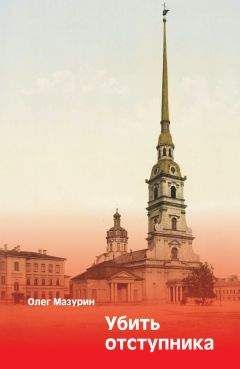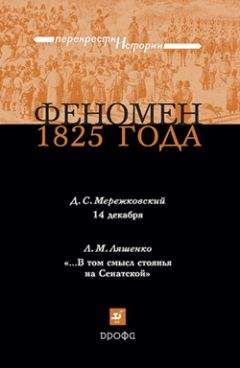Сергей Терпигорев - Потревоженные тени
— Ну что, Клавденька, лучше ему?
— Я не была у него. У него Агафья-ключница сидит, его нельзя тревожить, ему надо дать успокоиться... — Затем села опять в кресло и добавила: — Марфушку, эту подлую, наконец увезли сейчас в Ивановскую пустошь[24].
— Клавденька! Что ты делаешь? Ну, за что? Она же ведь тебя за отца просила! — воскликнула матушка.
Но тетя Клёдя, ничего не отвечая ей на это, переменила разговор и начала рассказывать, что дождик, ливший сегодня целый день, перестает к вечеру и погода хочет, кажется, разгуляться.
Чтобы не раздражать ее еще более, не перечить ей, все тоже начали говорить о погоде, жалуясь на дожди и наступающее холодное время
— У тебя, знаешь, Клавденька, и сыро здесь и холодно, — сказала ей матушка, — ты бы велела протопить...
Матушка сделала движение плечами от проникающего ее холода и сырости.
— Надо бы, ты находишь? Хорошо, я велю, только уж на ночь, погодя немного.
В доме, то есть в гостиной, где мы сидели, давно уже горели свечи. В угольную, смежную с гостиной, подали самовар, и там тоже зажгли две свечи. Мы все перешли туда. Когда мы там расположились вокруг чайного стола, к тетеньке из темного, неосвещенного зала, потом через гостиную, тихонько, ступая на цыпочках, пришел лакей и сказал, что в переднюю пришли староста с бурмистром и привели мужиков.
— Сейчас, — ответила ему тетя Клёдя, — я сейчас выйду к ним.
Тетя Клёдя налила нам чай, аккуратно прикрыла чайник сложенным вчетверо полотенцем, поставила его на самовар и, извиняясь, что должна оставить нас на минутку, вышла, направляясь в темный зал и потом, вероятно, в переднюю. Тем временем мы выпили налитый ею нам чай, — мы были голодны и, не желая раздражать ее, молчали, ожидая ужина, — матушка налила нам в ее отсутствие по другой чашке. Я встал и, так как матушка вела все тот же разговор с приехавшей с нами родственницей, обнадеживая и успокаивая ее, — разговор, который уж сколько раз я слышал, — то от скуки и в надежде, не увижу ли я кого и не узнаю ли чего об Андрюше, я пошел сперва в гостиную посмотрел висевшие там старинные портреты дяди и деда с бабушкой и еще чьи-то, потом вошел в неосвещенный темный зал. Я хотел пройти из зала дальше, по коридору, до Андрюшиной комнаты, но дверь из зала в освещенную переднюю была отворена, и я увидал там тетеньку, стоявшую ко мне спиной, а перед нею, у стенки, по одной стороне двух мещан: того которого мы уже видели, как приехали, и еще другого, нового, и четырех мужиков, из которых я знал только одного — это бурмистра, которого я видел когда он приезжал к нам, в то время когда тетенька гостила у нас, за приказаниями. Я не повернул в коридор, а остановился и слушал из зала, что они говорили... Этого разговора и этой сцены я никогда не забуду, — эти лица и теперь, через тридцать пять лет, у меня перед глазами, я вижу их, как будто бы это вчера только все было, и слышу их разговор...
— Ну, так вот я вам говорю и объявляю, говорила тетенька, обращаясь к стоявшим перед нею мужикам, — тебя, Степан, и тебя, Захар, продала я в вольные и свободные охотники козловским мещанам Клюеву и Младенцеву — вот этим, — она посмотрела на одного и на другого мещанина, которые при этом переступили с ноги на ногу и поправились, покрутили шеями, — и если вы будете повиноваться, как вам подобает, и все будет сделано, как следует, вы получите по двадцати пяти рублей в награду от меня, а там, как война кончится, и совсем станете вольными... А если же будут глупости какие, если вы будете сопротивляться, я вас все равно без зачета отдам в ратники, и тогда вы и после войны будете моими же... как с войны придете...
Два средних мужика, стоявших между бурмистром и старостой, поклонились ей молча с насупленными лицами.
— А они, — продолжала тетушка, обратившись к одному сперва мещанину, а потом к другому, — а они от себя вам награждения дадут еще и угостят вас, как следует.
Мещане что-то сказали, что-то вроде: «да уж это так, как следует, это уж известно...»
— Послужите... Послужите царю... Что ж? Вы еще не старые, не бог весть какие старики, — можете. Вон у меня у самой родственники мои, и те служат: выбрало их дворянство, и идут, пойдут служить, — говорила им в наставление тетушка.
Мужики молчали.
— А это, что на войне убить-то могут, — продолжала она, — так от воли божией никуда не уйдешь, это если кому назначено.
— Это уж точно, от судьбы своей и если уж назначено, — сказал один мещанин, встряхнул головой и вздохнул от глубины души.
— Вот здесь и неприятеля никакого нет, стоим мы, а час наш придет — и все будет кончено, — опять заговорила тетенька и тоже вздохнула, как бы вспомнив о душе и об этом часе. — А тут, по крайней мере, и царю послужите и за веру отцов и за свою, православную, постоите.
— Это так, — согласился и другой мещанин и поднял голову, вытягивая шею.
Наступила минута молчания.
— Так-так, — сказала тетенька, обращаясь к лысому бурмистру, — сегодня я тебе дам их вольные отпускные, ты их отдашь стряпчему, как намедни, — они уж знают, как это надо сделать, а сам пойдешь с ними в рекрутское присутствие там уж будут знать, стряпчий уж знает, что toe и как там надо будет делать, и если они, — она указала головой на двух средних мужиков, внимательно слушавших ее распоряжения об их судьбе, — и если они будут всё делать, как следует, то как сдадут их, выдай им из денег, которые получишь от них вот, — она указала головой на обоих мещан, — каждому по двадцати пяти рублей от меня и потом их вольные — стряпчий потом передаст их тебе уж засвидетельствованные... Ну, и все, — сказала тетенька, обращаясь к мещанам, — все, теперь задаток выдавайте.
Один мещанин начал было что-то говорить, но тетенька и слушать его не захотела, замахала ручкой и замотала отрицательно головой. Мещане полезли в карманы и вытащили оттуда толстые пачки приготовленных денег и один вслед за другим передали их ей. Тетенька начала их внимательно считать, пересчитала, положила их в карман своего платья, потрогала его потом рукой, не обложилась ли, и сказала мещанам:
— Вы не беспокойтесь, если что, деньги ваши будут целы, не пропадут. Эти не сойдут — других найдем стариков.
Один мещанин вздохнул и взял одного из мужиков, обреченных уже в ратники, за руку, поднял ее и сказал:
— Вот, маленько не владеет он ею.
— Знаю, это ничего, это левая, — успокоительно сказала тетенька..
— Обегают этаких-то.
— Ничего, бог даст, сойдет. Ведь это не рекруты.
— Тогда, уж если что, — другого уж вы.
— И другого, я же тебе говорю, найдем.
— Нет, чтобы уж без сумления... Потому уж, ведь и у других помещиков тоже есть, которых они продают.
— Да ведь я уже сказала... Будь покоен.
Мещанин ничего не возразил. Наступило опять молчание.
— Ну, берите их, ведите с богом, — опять, прерывая молчание, сказала тетенька.
— Сейчас, на ночь, заковать их прикажете? — спросил лысый бурмистр.
— Заковать, заковать непременно, — заговорила тетенька. — Все лучше заковать вели, и им самим покойнее, в голову ничего дурного не придет, да и мне тоже... Пальцы смотри чтобы не порубили они себе на руках.
Бурмистр с одним мещанином стали возле одного мужике, другой мещанин и староста — возле другого, дверь в сени отворилась, и они начали выходить.
— Как закуешь, ужо, после ужина, приди ко мне, — вслед уходящему бурмистру сказала тетенька. — Тебе еще вольные им написать надо. Я не успела, у меня тут приехали гости...
Я посторонился и встал в тени, увидав, что тетенька уходит из передней. Она прошла мимо меня в двух шагах, не заметив меня и на ходу все ощупывая у себя карман, в котором были у нее деньги...
Я забыл обо всем, подошел к столу, стоявшему у темного окна зала, выходившего в сад, посмотрел на темные, ночью почти черные, верхушки деревьев, смутными очертаниями видневшиеся сквозь забрызганные снаружи дождем запотелые стекла, и тяжело опустился на него.
Я видел в первый раз, как продавали людей, — я не видывал этого раньше никогда. Мне даже это как-то в голову не приходило, хотя, конечно, я знал, что это бывает, что это делают, но я теперь точно первый раз узнал об этом: я не видел этого никогда и оттого не задумывался над этим. Я не знал умом, что это нехорошо, что это безнравственно, что это преступно против человечества, — я ничего этого не знал сознательно, — одним словом, я видел только теперь это и был глубоко потрясен, возмущен в своем детском сердце и в душе... Я знал и слыхал сплошь да рядом разговор о том, что вот Иван Петрович продал свое имение, а другой Иван Петрович купил, что в этом имении столько-то душ и столько-то десятин земли, что имение хорошо, что продано оно или куплено дешево, что эти двести или шестьсот душ в нем тоже, значит, одним проданы, а другим куплены; но это все представлялось как-то в виде продажи и купли дома, усадьбы и сада, — проданной и купленной Петровки и Осиновки, представлялось это все вместе, нераздельно, в общем, и потом, это было делом обыкновенным и потому не поражало нисколько. А это вдруг голо как-то: люди мне незнакомые, неизвестные, и их продают, и совершается это тут же, при них, и на их глазах... тут же и их покупатели, они их берут, рассматривают, говорят, что вот у этого-то рука плохо действует, и рассматривают руку, спорят о ней... «А как он взял-то его за руку и поднял ее, а потом опустил ее, бросил, — как они посмотрели друг другу в глаза! думал я все. — А потом, как они, мужики, на тетю Клёдю-то все смотрели и вслушивались, что она говорит... А как затем, когда она сказала: ну, так так-то, идите, ведите их, и они их взяли и пошли с ними... Их закуют, чтобы они не ушли ночью, и руки им свяжут или тоже закуют, чтобы они не порубили себе пальцев... И потом, как она все ощупывала карман, где деньги: говорит, а сама — нет-нет и ощупает его...»