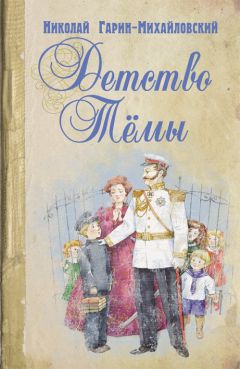Николай Гарин-Михайловский - Студенты
– Жив еще? – встретил его Шацкий.
– Целую неделю, Миша, как видишь, высидел, ну, а сегодня уж невмоготу: говорю, так и так, тетку надо проведать. «Где живет?» На углу, говорю, Гороховой и Фонтанки. Понимаешь? Не соврал…
– К Марцышке?
– Требуют… Все пять в складчину бенефис мне дают… Да! Знаешь, Катя Тюремщица – готова… Три дня тому назад…
– Откуда ты узнал?
– Шурка сказала.
– Значит, сношения есть все-таки с Машками и Шурками?
– Есть, конечно, Миша. Почты для всех устроены… Конвертик этакий, почерк приличный: все как следует. Rendezvous [Свидание (франц.)] напротив… Полпивная, вполне приличная. Особая комната, все как следует… Раз с Шуркой сидим: слышу, кухаркин голос…
Ларио произнес «кухаркин голос» с той интонацией, с какой говорил «шшиик» и вообще все то, что хотел подчеркнуть.
– Ругает, то есть на чем свет стоит, своих господ, и главным образом не так барыню, как барина.
– За что?
– Подбивается к нянюшке…
Ларио бросил шутовской тон и заговорил серьезно, с своей обычной манерой, скороговоркой:
– Понимаешь, действительно подлец… с виду этакий солидный, брюшко, тут на подбородке пробрито, лет этак пятьдесят уж будет, и вдруг за нянькой, а та совсем еще девочка… ну, лет пятнадцати… И прелесть что за девочка… Боится его, а он пользуется…
Разговор оборвался. Ларио прошелся по комнате.
– Ну, а ты, Миша, как?
Шацкий утомленно закрыл глаза.
– Ты все худеешь.
– Я плох…
Он сделал гримасу и провел рукой по лицу.
– Здешней воды не переношу… Денег нет… и высылать не хотят… Мне, кажется, остается одно: пустить себе пулю в лоб.
– Что ж, пускай, Миша… мы тебя хоронить будем, а ты только этак головкой станешь поматывать… знаешь, как анафема…
– Дурак… Какая анафема?..
– Старушка одна такая была. Ну, жила себе где-то, не видала никогда анафему… Ну, и пошла искать. «Видела анафему?» – спрашивают ее. «Видела, батюшка, видела…» Выскочил к ней какой-то волосатый да кричит: «Анафема!!», а она сидит да только головкой поматывает, а он опять: «Анафема!..»
Шацкий не слушал.
– Нет, Миша, ты что-то того… действительно плох…
Шацкий встал, оттопырил пренебрежительно нижнюю губу и продекламировал тихо, закатив глаза:
– Волк, у которого выпали зубы, бешено взвыл…
– Миша, не грусти: зубки есть еще у тебя.
Шацкий лениво потянулся.
– Ну, что ж ты? Деньги есть? – спросил он.
Ларио смутился.
– Трешница, Миша, есть… Понимаешь, я того… я как только получу, тебе сейчас же… того…
Шацкий сделал вид, что хочет зевнуть, но не зевнул и, опять падая на диван, лениво произнес:
– Успокойся.
– Понимаешь… хоть и бенефис, а все-таки надо… понимаешь…
– Понимаю, – устало кивнул головой Шацкий.
– А впрочем, Миша, если ты уж так плох…
Шацкий не сразу ответил.
– Не надо…
– Нет, ты послушай…
– Оставь… у меня опять живот болит.
Он побледнел, скривился от боли, а Ларио упорно смотрел на него:
– Ничего, Миша, пройдет: это весна.
Через несколько минут он уже прощался:
– Ну, Миша, мне того… пора. Ты что ж, писал домой?
Шацкий покосился в угол и небрежно ответил:
– Писал, что в госпитале уже…
– Ну?
– Ну, и вот…
– Пришлют, Миша.
– Конечно…
Проводив Ларио, Шацкий устало потянулся, взял лекции дифференциального исчисления и лег с ними на диван. Шел третий экзамен. В году он почти ничего не делал и теперь занимался. У него была какая-то своеобразная, совершенно особая манера знакомиться с предметом: он принимался за него с конца, потом перебрасывался куда-нибудь к средине, возвращался опять к концу, опять подвигался вперед, и так до тех пор, пока не прочитывал всего предмета. Тогда он начинал опять сначала, и если успевал кончить все чтение до экзамена, то шел и выдерживал его блистательно. Если же не успевал, то тоже шел и выдерживал, всегда обращая на себя на экзамене внимание всех: и студентов и профессоров. Он размахивал руками, шаркал ногами и точно нарочно дразнил самых злых или обидчивых профессоров. Очередные студенты волновались и тоскливо шептались между собой:
– Вот рассердит-таки… и что это за пошлая манера?
Но Шацкий умел брать какой-то такой тон, который не раздражал.
Профессора высшей алгебры, молодую звезду, очень, впрочем, немилостивую к плохо понимавшим студентам, он даже так смутил, что тот в конце концов должен был извиниться.
– У вас конечного вывода нет, – с гримасой, наводившей панический страх на студентов, подошел молодой черненький, во фраке, профессор к доске Шацкого.
Шацкий фыркнул.
– Лагранж и этого не требует… Он дает студентам свою книгу и только просит объяснить ему.
– Я признаю такой способ, – поспешно, покраснев, сказал профессор. – Я не настаиваю… Если вам угодно словесно…
И между профессором и Шацким начался словесный диспут почти по всему предмету.
– Достаточно… Извините, пожалуйста…
Профессор протянул Шацкому руку.
Шацкий положил мел и, стоя рядом с профессором, следил без церемонии за его рукой, ставившей три пятерки.
Он пренебрежительно фыркнул и пошел прочь из аудитории, не замечая или не желая замечать взглядов, почтительных и завистливых, своих сотоварищей.
Но экзаменационные победы доставляли ему только мимолетное удовлетворение: денег не было, здоровье расшатывалось.
– Да, да, – печально говорил сам себе Шацкий, – еще одна такая победа, и я останусь без войска…
В то время как у Шацкого экзамены начались с десятого марта, у Карташева они должны были начаться в мае. Карташев усердно занимался и думал об экзаменах с некоторой гордостью. Пройденное было все в голове и сидело прочно: он открывал наугад любую страницу, прочитывал начало и бойко рассказывал себе дальнейшее содержание.
В разгаре занятий в Карташеве проснулась опять жажда к писанию. На этот раз ему хотелось писать уже не веселое, а что-нибудь сильное, драматическое и жалостное без конца. Он остановился на теме: нуждающийся студент доходит до последней нищеты и лишает себя жизни, выбрасываясь из окна четвертого этажа.
Наступившая пасха помогла придумать рамки рассказа. Карташев ходил ночью под пасху к Исаакию и решил уморить своего героя как раз в эту ночь. Студент стоит у окна. Перед его глазами в темноте звездной ночи вырисовывается как бы окутанный флером, весь освещенный, точно качающийся в воздухе, Исаакий; студент смотрит и вспоминает все свое детство, радостную семейную обстановку былого времени в этот день и, окончив свои воспоминания, собравшись с духом, выбрасывается из окна. Описать последний момент стоило Карташеву большого труда: лично ему, сидевшему до некоторой степени в душе злополучного героя, не хотелось вылетать в окно; он ощущал во время писания ужас и полное нежелание лететь, – точно какая-то сила отталкивала его, и так живо, что для него было ясно, что он, Карташев, сам ни при каких обстоятельствах в окно бы не вылетел… да и никаким другим способом не выпроводил бы себя за пределы этого мира добровольно.
«А не добровольно?» – задавал себе вопрос Карташев, и, вдумываясь в последнюю минуту такого конца, он на мгновение чувствовал весь ужас ее, вздрагивал и с радостью думал, что, слава богу, в настоящий момент он еще жив, здоров и молод.
Две недели писалась повесть. Много слез за это время было пролито Карташевым, – так жаль было ему своего героя. Не только Карташев плакал: бедная девушка, серая с лица, некрасивая, рекомендация хозяйки для переписки, отдавая рукопись хозяйке, чтобы та уже вручила Карташеву, призналась:
– Мы с мамашей так плакали… Это вот место, где он свое детство под пасху вспоминает, так хорошо… И ведь по примете как раз и вышло: разбил он тарелку тогда с пасхой, а это уж непременно к худому… Очень хорошо…
Так как литература отвлекла Карташева от приготовления к экзаменам, то, чтобы покончить совсем со своим писанием, он решил, не медля после переписки, снести рукопись в какую-нибудь редакцию. В какую? Конечно, в лучшую.
Карташев вышел как-то утром из дому с свернутой рукописью.
«Ехать или идти?» Денег было мало, совсем мало, как у самого настоящего литератора, и Карташев подумал: «Конечно, идти, – прямо неприлично даже – ехать».
По мере приближения к редакции Карташев волновался все сильнее, и, когда наконец подошел к подъезду ярко-красного дома, руки его были холодны как лед, а ноги только что не подкашивались.
«А вдруг откажут? Вдруг крикнут: пошел вон! Ну, положим, так не крикнут, но все-таки все сразу поймут, что отказали. Не назад ли, чтобы не переживать опять душевной тоски? А переживешь…» – неприятным предчувствием вдруг засосало Карташева, когда, отворив дверь, он очутился в небольшой приемной редакции.