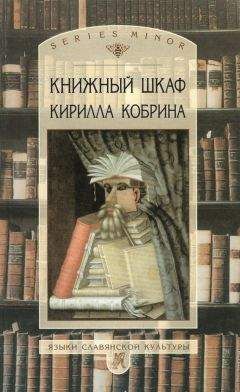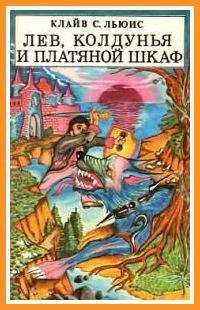Федор Зарин-Несвицкий - Борьба у престола
В последние дни граф Павел Иванович Ягужинский заметно осунулся. Он стал нервен и раздражителен. Отношения его с министрами Верховного тайного совета были натянуты. К нему относились недоверчиво и подозрительно. С той минуты, как он отправил Сумарокова к герцогине Курляндской, теперь уже императрице всероссийской, он не знал покоя. Черная туча повисла над его головой. По его расчету, Сумароков уже должен был вернуться. Ягужинский почти раскаивался, что затеял игру, быть может, преждевременно.
Крупными шагами ходил он взад и вперед по своему кабинету в то время, как его секретарь, молодой, худощавый человек с быстрыми черными глазами, Семен Петрович Кротков, раскладывал на столе бумаги. Это были дела из Сената, взятые графом еще при жизни Петра II для рассмотрения. Секретарь, больше для вида и по привычке, в порядке раскладывал их. Он отлично знал, что Павел Иванович и не прикоснется к ним.
Действительно, не до них теперь было Ягужинскому. Да к тому же со смертью Петра прекратилось всякое движение дел ив Сенате, и во всех коллегиях. Государственная машина остановилась.
Семен Петрович искоса поглядывал на графа, на его озабоченное, похудевшее лицо и, хотя был уже не нужен Павлу Ивановичу, медлил уходить, словно чего‑то дожидаясь. И он дождался.
Павел Иванович остановился и, очевидно желая отвлечься от своих тяжелых дум, обратился к своему секретарю:
– Ну, что слышно в городе?
Семен Петрович словно ждал этого вопроса. Он оживился.
– В городе, ваше сиятельство, все по – прежнему, только господа фельдмаршалы распорядились, чтобы после девяти часов вечера в обывательских домах огня не было, да усилили дозоры… Боятся чего‑то.
– Вот как, – задумчиво произнес Ягужинский.
– Дошло до Верховного совета, – продолжал Кротков, – что шляхетство противу них волнуется. Еще бы, – продолжал он. – Кто не с ними – тот враг им! А всякая душа калачика хочет. Шляхетство тоже не обсевок в поле. Его не выкинешь. Намедни у командира Вятского полка Зарубова офицеры собрались. Тоже надо знать про себя‑то, что ожидает? Так сами знаете, что сказал Василий Владимирович: «Негоже‑де офицерам собираться для рассмотрения политических вопросов. Про то‑де ведает Верховный совет». Ну, и разогнали всех, кого куда!
Ягужинский, мрачно нахмурившись, слушал слова своего секретаря. Действительно, Москва переживала необыкновенное время. Словно раскрылись какие‑то ворота, около которых толпился безмолвный народ, и все сразу заговорили. Все слои общества, начиная со стоящих во главе его знатных лиц, через шляхетство, мелкое дворянство, «la petite noblesse»[13], как называли этот круг иностранные резиденты, до последних дворовых, – все понимали, что они стоят на рубеже, за которым их ожидает новая жизнь. Какая? Никто не мог бы сказать. Слух о том, что Верховный совет решил ограничить самодержавную власть, быстро распространился сверху донизу. И все с жадностью ожидали своей доли.
Знатные лица хотели присвоить себе власть, шляхетство мечтало принять участие в правлении, холопы и крепостные бредили свободой. Все казалось доступно и близко. Получился кипящий котел, в котором кипела Москва.
Верховники вызвали это движение и, как древний чародей, который призвал демонов и не мог совладать с ними, беспомощно стояли среди разыгравшихся страстей.
Дворовые подняли головы, шляхетство громко выражало свое негодование на поведение верховников, задумавших дело самовластно, ни с кем не делясь своими планами Настала полная анархия, и на эту анархию верховники ответили крутыми мерами. Всякие собрания были строго запрещены. Заставы закрыты. В Москве усилены караулы.
Ягужинский все это знал. Но знал он и еще больше. Ему было известно, что сношения с Митавой запрещены под страхом смертной казни, что он нарушил этот приказ и что верховники не постесняются с ним. По крайней мере, находясь в их положении, он не задумался бы предать смерти своих врагов.
Он снова тревожно заходил по комнате.
Семен Петрович замолчал и стоял, опустив глаза, ожидая или новых расспросов, или позволения уйти.
В эту минуту в соседней комнате раздались быстрые, легкие шаги, распахнулась дверь, и на пороге появилась очаровательная девушка лет шестнадцати, почти ребенок, с темно – русыми мягкими кудрями и большими голубыми глазами.
Кротков почтительно склонил голову, и на озабоченном лице Ягужинского мелькнула счастливая улыбка.
Это была его любимица, дочь Маша. В его суровом сердце было только одно теплое чувство – и это чувство принадлежало этой нежной, прекрасной девушке, его дочери. Во дни фавора Долгоруких он мечтал для своей дочери о возможности породниться с ними, и дело было уже почти слажено. Покойный отрок – император благоволил к нему, как к одному из сподвижников своего деда. Его фаворит, князь Иван Алексеевич Долгорукий, юный и легкомысленный, не мог оставаться равнодушным к красоте едва расцветающей Марии. Он влюбился в нее и хотел жениться. Павел Иванович торжествовал. Но, упоенный своим положением, отец фаворита и государыни – невесты, князь Алексей Григорьевич, восстал против этого брака. Ему казалось унизительным, ему, будущему тестю императора, породниться с Ягужинский, хотя и графом, но, по его мнению, худородным человеком.
Свадьба расстроилась. Он просватал сыну Наташу Шереметеву, чей род, в своей гордости, считал достойным породниться с Долгорукими, тем более что Шереметевы были богаты.
Этого не мог простить ему Ягужинский. Еще раз он почувствовал, до какой степени чужд он тем, кто составлял собою высший придворный круг, в котором знатное имя заменяло все таланты.
С этой поры не было у Долгоруких врага злее Ягужинского! Иван скоро забыл свое мимолетное увлечение, а Маша никогда и не увлекалась этим бледным, преждевременно истощенным юношей.
Маша с ласковой улыбкой ответила на поклон Кроткова и, обращаясь к отцу, быстро проговорила:
– Я увидела из окна, – дедушка едет.
Дедушка – отец ее матери, Гаврило Иванович Головкин.
– Я хотела сказать тебе это, батюшка, – продолжала девушка. – Может, встретишь его? Я бегу к нему.
И с этими словами Маша повернулась и убежала, оставив после себя благоуханье свежести и молодости.
– Граф Гаврило Иваныч, – с затаенной тревогой произнес Ягужинский. – Что это значит?
Старый граф очень редко навещал семью Ягужинского, и каждый его приезд знаменовал какое‑либо событие.
Павел Иванович поспешил старику навстречу. Он встретил его в большой зале. Граф ласково здоровался с Машей и своею дочерью, женой Павла Ивановича Анной – красивой, средних лет женщиной.
Старик дружески пожал руку Павлу Ивановичу и с улыбкой произнес:
– А, какова внучка! Да она, право, лучшая из внучек! Какой красавицей растет! Что Иван Долгорукий! Мы тебе принца сосватаем…
Маша покраснела до слез.
– Дедушка! – воскликнула она, прячась за мать.
Ягужинский внимательно глядел на тестя. Да, его тесть пользовался завидной репутацией среди иностранных резидентов как сдержанный, хорошо владеющий собой, всегда ровный и Тактичный дипломат. Но Ягужинский слишком хорошо знал его, чтобы не заметить тех усилий, какие делал старый дипломат, притворяясь веселым.
Граф непринужденно проговорил еще несколько минут и наконец сказал:
– С вами и о делах забудешь. А мне надо с Павлом Иванычем поговорить. Времена теперь необычные.
– Прошли бы к себе, – сказал Павел Иванович. Женщины поднялись.
– Прощай, батюшка!
– Прощай, дедушка!
Старик ласково поцеловал дочь и внучку. Лишь только скрылись они за дверью, улыбка исчезла с его лица; оно приняло серьезное, озабоченное выражение.
– Что случилось, Гаврил о Иваныч? – с тревогой спросил Ягужинский.
– Сейчас был у меня князь Дмитрий Михайлыч. Получены вести из Митавы.
Лицо Ягужинского выразило мучительное беспокойство.
– Ну? – слегка побледнев, спросил он. Опершись рукой о поручни кресла, весь подавшись вперед, он с волнением ожидал ответа.
– Рано утром, – начал Головкин, – к нему приехал от Василь Лукича прапорщик Макшеев, – знаешь лейб – регимента?
Ягужинский кивнул головой.
– Он привез письмо от Василь Лукича. Вот оно…
И Головкин вынул из кармана камзола толстый пакет, запечатанный пятью восковыми печатями, с государственным гербом. Острым, жадным взглядом впился Ягужинский в этот серый пакет.
– Нет, нет, – торопливо проговорил старый граф, угадывая его желание. – Дмитрий Михайлыч вручил его мне как президенту Верховного тайного совета. Пакет должен быть распечатан в присутствии всех членов совета сегодня, в час дня.
Ягужинский опустил голову и молчал.
– Прапорщик Макшеев, – продолжал Таврило Иваныч, – передал, что посольство было принято отменно ласково, что императрица на речь Василь Лукича ответила якобы согласием и долго потом наедине беседовала с Василь Лукичом, и по окончании разговора Василь Лукич был очень весел. А в ночь приказал Макшееву скакать в Москву с донесением. Нечего и разгадывать – императрица согласилась на кондиции.