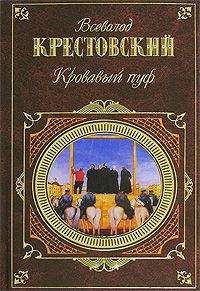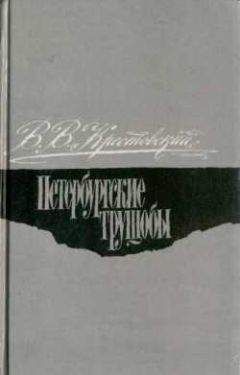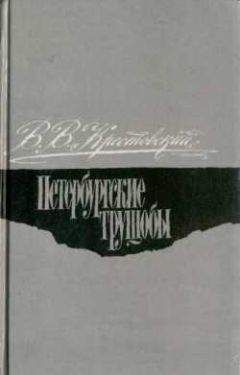Всеволод Крестовский - Кровавый пуф. Книга 2. Две силы
— А, Напольйонем — разводя руками, — почтительно и даже благоговейно произнес экс-улан. — Да!.. Ну, это иное дело!.. Напольйон!.. Пред этим именем я склоняюсь ниц и молчу, я молчу, муй пане!
— Теперь, господа, я желал бы знать, — снова заговорил Свитка, — как вы смотрите, то есть лучше сказать, какова программа ваших современных действий, ваш взгляд на задачу относительно настоящего именно времени? Мое любопытство будет простительно, — принимая деликатно-извиняющийся тон, пояснил он, — если я скажу, что мне поручено собрать об этом сведения для соображений петербургского Центра… Это даже один из пунктов моей инструкции.
— Наш взгляд… да как сказать?.. наш взгляд, то есть…
Паны очевидно пришли в затруднение перед вопросом, поставленным таким образом.
— То есть я разумею программу действий дворянства относительно правительства в настоящее время, — пояснил Свитка. — Весьма бы желательно, — прибавил он, — во всем Западном крае достичь по этому предмету полнейшей гармонии и единообразия.
— А, да-а! — подхватил солидный и рассудительный пан Котырло. — Не знаю, как где, но мы, по крайней мере, держимся политики галицких помощников сороковых годов, то есть все брожение относим к агитациям красных, к волнению умов между хлопами. Когда требуют объяснений, мы даем отзывы, что дескать положением 19-го февраля пользуются какие-то неведомые нам агитаторы и мутят народ, который выйдя из-под власти помещиков, думает себе, что он уже может теперь не повиноваться и власти правительства, и что стало быть местные власти обязаны укрощать крестьян.
— Ну, а что касается самих крестьян, — весело подхватил Селява-Жабчинский, — то тут мы проводим слияние, любовь, братство, равноправность и прочие подобные конфетки. Средство, ничего себе, действует. Ловятся и на эту удочку! Ну, конечно, под рукой постоянно пускаются слухи, что освобождением обязаны они никак не правительству, — это тоже с одной стороны не мешает, помня галицийскую резню 46-го года.
Свитка чуть заметно, но очень коварно улыбнулся про себя и в то же мгновение поспешил принять прежнее спокойное выражение.
— Да, — подтвердил Котырло, — и чтобы подобные сцены не могли повториться, поневоле надо содействовать распространению братств трезвости, даже себе в убыток, потому что сколько уж винокурень совсем стали, да и моя тоже! — прибавил он с хозяйственно-сокрушенным вздохом.
— Теперь, господа, я подхожу к самой существенной, к самой важной части моего поручения, — опять приняв деловой и как бы официальный тон, сказал Свитка, и снова занял у стола прежнее место и прежнюю позу. — Наше общее дело, на которое смотрит вся Европа, весь мир, должно иметь вид и формы вполне благоустроенного восстания.
— Натуральне! — подал голос Селява.
Прочие выразили минами и жестами полное свое согласие с заявленным мнением Свитки.
— Благоустройства же мы можем достигнуть, — продолжал тот, — единственно посредством организации, то есть нам надобно позаботиться о том, чтобы заблаговременно, гораздо ранее решительного дня и часа, даже чем скорее тем лучше, устроить и ввести повсюду в действие нашу тайную революционную администрацию. Вся организация должна быть строго подчинена одной высшей, так сказать, центральной распорядительной власти — ржонду народовему. Организация должна прочно связать все сословия, собрать и правильно распределить наши народные силы и систематически употребить их для предстоящей борьбы, а без того и наши широкие, наши блестящие планы не удадутся!.. Население должно прямо, незаметно для самого себя и как бы совершенно естественно перейти от русской власти под нашу революционную.
— Мм… это так, конечно, — заметил Котырло; — но… тут есть один весьма существенный вопрос, так сказать, вопрос жизни или смерти.
— То есть? — спросил Свитка.
— То есть, в чьих руках будет находиться эта высшая, центральная власть? Если в руках красной сволочи, то слуга покорный…
Свитка опять улыбнулся про себя тонкой, чуть заметной, но очень коварной улыбкой и опять еще скорее поспешил смаскировать ее строго серьезной миной.
— Мне кажется, что для Литвы об этом не может быть и вопроса, — сказал он. — В Литве и власть, и влияние всегда останутся на стороне белых.
— Хм… А если эта центральная красная власть одним декретом из Варшавы скассует и белых, и всю их организацию, да пойдет террором вводить свои социальные и коммунистические бредни на счет нашей собственности и наших родовых привилегий. Тогда что?
— Тогда?.. Тогда мы можем и отложиться от Варшавы. Какая же надобность непременно идти за нею на привязи? Идем пока нам это нужно и удобно; а неудобно — только они нас и видели! Не Литва в Польше, а Польша в Литве нуждается! — с силой искреннего убеждения прибавил Свитка. — Литва, слава тебе Боже, слишком достаточно сильна, чтобы существовать совершенно самостоятельно и независимо; а Польше одной без нас не вытянуть: мы для нее житница, мы для нее ост-индские колонии. Польша без Литвы — это и географический, и политический абсурд, а если мы сила, так гнись под нас, пляши под нашу музыку или пропадай себе. Варшавские красные сапожники нам нисколько нестрашны.
Эта речь Свитки бодро, освежительно подействовала на присутствующих. Он говорил с такой уверенностью, с такой силой убеждения, и столь ловко умел задеть чувствительную струну "местного патриотизма", что на физиономиях панов заиграли самодовольные улыбки гордого сознания своей силы и значения. Им даже очень понравилась мысль, что они, коли захотят, то могут и наплевать на Польшу и быть сами по себе, а Польша сама по себе — пускай-де нам кланяется и нашей милости панской выпрашивает. Новая идейка эта очень лестно и приятно щекотала местно-литовское самолюбие шляхты.
— И так, панове, насчет организации, — приступил к делу Свитка. — Местная организация должна состоять из начальников: воеводского, повятоваго, окренговаго и парафияльнаго.[39] Для сбора податей должны быть назначены особые поборцы, а для местных банд особые довудцы, по воеводствам же — военные воеводы; местные довудцы будут пока организаторами местных военных сил. Кроме того, от высшего ржонда в каждое воеводство будет назначен особый комиссар, со значительными полномочиями, для общих наблюдений за исполнительностью членов организации и за течением дела вообще, а своевременно, то есть когда необходимость укажет действовать на инерцию масс террором, предполагается в каждом повете учредить трибунал с немедленной карой за неповиновение.
— От-то так! От-то по-нашему! — обрадовался пан Копец, но пан Котырло далеко не выразил такого же чувства. Он, напротив, поцмокивая, морщась, тужась и разглядывая свои ногти, выжимал из себя заветную мысль.
— Видите ли, мм… оно все, пожалуй, очень стройно придумано, — говорил он, медленно и тягуче, — но… мы бы думали… по-моему, по крайней мере… мне сдается, что этот трибунал, комиссары и прочее, все это пахнет как-то краснотою… А мы бы думали то же самое сделать, да только проще, интимнее…
Свитка нахмурился и закусил губу.
— То есть как же бы, например? — спросил он сквозь зубы и, чтобы не слишком явно выдать свои внутренние ощущения, закурил папироску.
— По крайней мере, наставления Ламберова Отеля, которые нам ни в каком случае нельзя не принимать в соображение, — продолжал Котырло, — именно указывают нам на такое простое, интимное устройство. Мы, видите ли, склонны смотреть на восстание как на свое домашнее дело и рассчитываем иметь по уездам двух-трех человек, которые поведут дело, и конечно в каждом из нас будут иметь послушного и надежного помощника… И такую организацию подготовили бы к тому времени, когда по нашим расчетам, настанет для этого пригодная, безопасная пора… Впрочем красные, коли хотят, пускай начинают дело, а мы поглядим.
Эти мысли пришлись крайне не по вкусу скромному на вид Василию Свитке. Он становились поперек его собственным планам и целям, поперек той двойной и огромной игре, которую он, втайне ото всех, давно уже задумал и сообразил в своем уме, шансы которой рассчитывал и преследовал постоянно, прикидываясь, где нужно, умеренным, былым, чуть не консерватором и, пока до времени, играя второстепенную роль в Петербургском Центре. Выслушав возражение пана Котырло, он собрался с мыслями и начал, по возможности, ровнее и спокойнее.
— Так нельзя, господа, — заговорил он, обращаясь преимущественно к своему оппоненту. — Или мы любим более всего свой комфорт и свою собственность, или же дело своей родины. С такой выжидательной политикой вы рискуете остаться за флагом, рискуете обремизиться при шансах самой верной игры. В таком случае лучше уж прямо, раз навсегда, махнуть рукой на дело и садиться писать верноподданнические адреса. Но этот свой смертный приговор мы еще успеем подписать и после, когда все лопнет… Не торопите же его вашей нерешительностью. Вы пугаетесь красных, а между тем сами хотите выжидать, пока они всю власть захватят в свои руки; вы сами и власть, и себя головой выдаете им… Ах, господа, господа! — со вздохом воскликнул он, укоризненно покачав головой. — С вашими пустыми страхами вы забываете, что красные на Литве — это нуль. Вся сила у нас в собственниках, в шляхте. В вас весь залог успеха, а вы выпускаете инициативу из своих рук.