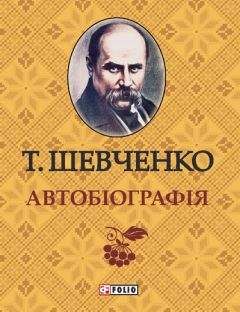Тарас Шевченко - Прогулка с удовольствием и не без морали
— И не сидел около немца! — сказал без улыбки Степан Осипович, закуривая сигару.
Софья Самойловна возвратилась в хату. И в скором времени белолицая, чернобровая Геба-Параска вынесла на подносе требуемый продукт, поставила на скамейку и проговорила краснея:
— Дяденька!. Тетенька велели спросить у вас, не подать ли вам еще чего-нибудь?
— Перцу с луком и горчицы немного попроси у своей тетеньки. А потом уже чаю, — прибавил он не улыбаясь.
Как спелое яблуко, зарделася белолицая Геба и, закрыв лицо рукавом, убежала в хату.
Зачайная речь вертелась сначала на шуточках Степана Осиповича, потом перешла на прекрасную сестру и великодушного брата и, наконец, на панну Дороту.
— Что за субъект это безмолвная панна Дорота? — спросил я у Степана Осиповича.
— Мрачный психический феномен, — отвечал он. — Она идиотка вследствие обмана и оскорбления. Ее печальная история тесно и даже родственно связана с гнусной историей старого Курчатовского, отца теперишнего владельца. Я вам расскажу ее историю, мне она более, нежели кому другому, известна. И по-моему, такие истории не только рассказывать — печатать следует. Эти растлители-беззаконники законом ограждены от кнута. То их следует и должно печатно казнить и позорить, как гнусное нравственное безобразие.
Только что Степан Осипович вошел в сущность речи, а я превратился в слух, как подошла ко мне белолицая Геба и краснея вполголоса сказала, что меня какой-то однорукий пан спрашивает. Я теперь только хватился, что я сделал непростительную глупость: ушел из дому, не сказав даже Прохору, куда я ушел. А впрочем, я и сам тогда не знал, куда я ушел.
— Что случилося? — спросили меня оба вдруг мои амфитрионы.
— Ничего особенного, — отвечал я смутившись. — Меня, как беглеца, разыскивают в околотке.
— Кто вас ищет?
— Человек, великодушием которого мы недавно восхищались.
— Неужели он сам? Где он?
— Отут стоить за хатою, — отвечала простодушная Геба.
— Что же ты остановилась? Проси их сюда к нам, — сказала Софья Самойловна, обращаясь к Гебе.
— Вы нам сегодня гору золота подарили, — говорил Степан Осипович, пожимая мне руку.
Белолицая Параска пошла просить гостя до компании, а мы все трое, вслед за Параскою, пошли триумфально встретить моего героя.
— Вы меня знаете, а я вас еще лучше знаю, и кончено, — так встретил Степан Осипович своего гостя и, пожимая ему руку, прибавил, показывая на Софью Самойловну. — А вот и моя старая немка. Прошу полюбить.
Софья Самойловна сделала книксен и благоговейно посмотрела на моего героя. А он, простодушный, покраснел, как девушка при встрече с незнакомым юношей. И, подойдя ко мне, шепнул на ухо: «За воротами Трохим вас дожидает». Я исчез, как кошка.
За воротами стояла бричка. А в бричке сидел, понуря голову, мой оскорбленный Трохим. Увидя меня, он отвернулся. Подходя к бричке, я слегка кашлянул. Он еще больше отвернулся. Я вижу, что дело плохо, зашел с другой стороны. Он отвернулся в противуположную сторону. Плохо, нужно переменить маневр.
— Здравствуйте, Трохим Сидорович, — сказал я, едва удерживаясь от смеха.
— Здравствуйте и вам, — сказал он и еще отвернулся от меня.
— Не хотите ли чего покушать?
— Не хочу, — сказал он протяжно и оборотился ко мне спиною.
Не без труда умаслил я моего Трохима и ввел его в освещенный гинекей Софьи Самойловны. На дворе уже было темно. Я отрекомендовал его как моего верного слугу и сподвижника и как будущего учителя моего героя.
— Браво! молодой профессор! Будем учиться, и все пойдет хорошо, — проговорил Степан Осипович, пожимая ему руки. Софья Самойловна приласкала его, как сына, попотчевала вотрушкой и посадила около себя на диване. Трохим не без церемонии исполнил ее желание, сначала поцеловав ее руку. Из чего я заметил, что он парень бывалый.
После весьма нелегкого ужина, к немалому изумлению Софьи Самойловны, мы собралися в путь. А она уже велела в клуни на соломе и постели нам приготовить. Услыхав о такой роскоши, я уже было и нюни распустил. Но герой мой, как истинный спартанец, решительно отказался от этого невинного плотоугодия. И тем более, что панна Дорота вчера вечером крепко захворала и сестры некем переменить у ее постели.
«Так вот где причина вчерашнего безмолвия», — подумал я. И, пожелав хозяевам покойной ночи, мы вышли на двор, дав слово навещать их чаще и чаще.
— А все-таки лучше было б, если бы вы переночевали, — говорила ярко освещенная свечой Софья Самойловна.
Степан Осипович, проводив нас до ворот и прощаяся, просил учителя и ученика без церемонии обращаться к нему за учебными книгами и удостоивать его сведениями о ходе своих занятий по педагогической части. Я молча пожал ему руку, и мы расстались.
X
Западный небосклон еще рделся, как потухающее зарево отдаленного пожара. На мягком красноватом фоне рисовалась темная прозрачная дубовая роща. Из-за рощи фиолетовой игривой струйкою подымался вверх дым, вероятно, из кухни Софьи Самойловны. Глядя на этот невозмутимый мир природы, сладкие успокоительные грезы посетили мою треволненную душу:
Не для волнений, не для битв —
Мы рождены для вдохновений,
Для звуков сладких и молитв.
Стихи Пушкина не сходили у меня с языка, пока мы не подъехали к селу. При въезде в село вместо царынного дида нам отворил ворота Прохор. И вместо обыкновенного приветствия произнес он клятвенное обещание в том, что не будь он Прохор Хиврыч, а будь он собачий сын, если он с этого часу отпустит меня от себя хотя на две пяди, — возьму, говорит, на веревку, та й буду водыть, як того медведя, — и что другой рады он не может дать с таким божевильным паном, как я. При этих словах Трохим посмотрел на меня значительно, как бы говоря: «Что, небось, неправда?»
— Посунься к тому боку, — сказал Прохор Трохиму, влезая в бричку. — З самого ранку на ногах, як той хорт на ловли! Рушай! — сказал он кучеру усаживаясь.
Мимо едва освещенного шинка спустилися мы тихо с пригорка и очутилися на гребли. На гладком зеркале пруда кое-где всплескивала рыбка и оставляла по себе тихо расширявшийся на воде круг. Проехав село и тополевую аллею, мы остановились на широком дворе. Из темного фона выдвигалась черная женская фигура. Я узнал в ней мою прекрасную Елену.
— Чи вси дома? — спросила она, встречая нас.
— Вси! — сказал я, выскакивая из брички.
— Где вы пропадали до сих пор? — спросила она, взяв меня за руку. Я сказал ей о моей находке.
— А что, разве я не говорила тебе, что они непременно там? — сказала она, обращаясь к брату.
— Да почему вы узнали, что я именно там? — спросил я ночную красавицу.
— Потому, что вы рано поутру прошли за царыну и не возвращались. А до хутора Прехтеля недалеко, я и догадалась.
«Умница», — подумал я и подал ей руку. И мы молча отошли от брички.
— Как здоровье вашей панны Дороты? — спросил я мою молчаливую спутницу.
— Очень нехорошо. Завтра необходимо попросить Степана Осиповича, и я не знаю, как это сделать. Муж уехал, а я…
— Куда ваш муж уехал? — прервал я ее, как будто меня тяготило его присутствие.
— Не знаю куда. Он уехал с вашим родичем. Верно, в Будища, — отвечала она, не изменяя тона.
Разговор наш как-то не вязался. Она сегодня не была похожа на себя. Я ей это заметил, и она сказала, что ей сегодня скучно. Я нарисовал ей привлекательную Софью Самойловну и в заключение объявил ее искреннее желание познакомиться с нею. Она и эту любезность приняла заметно сухо, из чего я мог догадаться, что мне осталося пожелать ей приятных сновидений и ретироваться восвояси. Что я благоразумно и исполнил.
Что ее так сильно беспокоит? Неужели болезнь панны Дороты, этого живого автомата? Или отсутствие беспутного мужа? Или и то и другое? И то и другое поодиночке дрянь. А вместе — безнравственная гадость. А она скучает без них. Странно!
Долго я еще шлялся в темноте по двору и повторял зады, пока, наконец, устал и пошел к себе на квартиру.
Во ожидании меня Трохим читал вступительную лекцию своему ученику. Когда я входил в комнату, он заставлял его узнавать буквы на обертке «Морского сборника» и прехитро толковал ему, что означают две палочки с перекладиной наверху и что значат такие же две палочки с перекладиной посередине. Прохор же, не обращая ни малейшего внимания на любознательную молодежь, читал вслух псалмы Давидовы, осторожно переворачивая пожелтевшие листы Псалтыря. Эта новая сцена освободила меня от томительного впечатления предшествовавших ощущений. Похвалив моего героя за понятливость и прилежание, Трохима за точное исполнение своей новой обязанности, а Прохора за борзое чтение писания, я хотел поклониться им и положиться спать, как Прохор выступил вперед и взял смелость спросить у меня, что значит «Коль возлюбленна селения твоя, Господи сил»? Я, признаюсь, был озадачен таким нечаянным вопросом. Но, сейчас же оправившись, отвечал ему наудалую: «Селение возлюбленное Господне, — сказал я ему, — означает не что иное, как монастырь». — Прохор посмотрел на меня с благоговением, а на предстоящих с удивлением, и больше ничего.