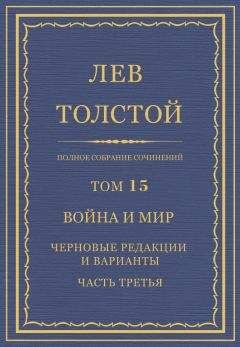Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 14. Война и мир. Черновые редакции и варианты. Часть вторая
— Некогда разбирать,[685] веди на перевязочный, — слышался сзади строгий и сердитый командирский голос.
— Батюшки! кормильцы, — плакал улан. — Смерть моя. Не дайте умереть.
— Полковник, — сказал Pierre распоряжавшемуся офицеру, — прикажите помочь этому.
— Этот готов. Мне этих свезти на перевязочный пункт и то не знаю где.[686]
— Не могу ли я вам быть полезен? — сказал Pierre.
Полковник попросил его съездить отыскать перевязочный пункт, который должен был быть вправо у рощи. Pierre поехал туда и,[687] не переставал с замиранием сердца слушать продолжающуюся пальбу, долго отыскивал перевязочный пункт, и хотя после многих встреч и противоречивых известий о ходе сражения и нашел его, но не нашел уже того места, где были уланы. Отыскивая их, Pierre ехал по тому короткому пространству, которое отделяло в Бородинском сражении первую линию от резервов. Вдруг сзади стрельба и канонада усилились до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил. Толпа солдат, раненых и здоровых, нахлынула на Pierr’а, проскакали офицеры и войска, бывшие впереди его — резервы тронулись вперед.
Навстречу ему рысью ехали пушки и ящики, облепленные солдатами, другие солдаты цеплялись, соскакивали и бежали кругом, впереди скакал офицер. Это был <князь Андрей>...
Князь Андрей узнал Pierr’a.
— Ступай, ступай, тебе здесь не место. Не отставать! — пронзительно крикнул он на своих солдат, лепившихся и бежавших вокруг орудий.[688]
—————
Князь Андрей был в резервах, которые[689] били без движения ядрами до 3-го часа и которые тронулись к батарее Раевского в 3-м часу! Князь Андрей устал от волнения опасности в бездействии, и теперь он задыхался от волнения и радости, подвигаясь вперед.[690]
Да, только сколь ни глупое дело было война, он чувствовал себя ожившим, счастливым, гордым и довольным теперь, когда чаще и чаще слышались свисты пуль и ядер, когда он, оглядывая своих солдат, видел их веселые глаза, устремленные на него,[691] слышал удары снарядов, вырывавших его людей, и чувствовал, что[692] эти звуки, эти крики только больше выпрямляют ему спину и выше поднимают голову и придают непонятную радость его движению.[693]
«Ну, еще, — думал князь Андрей, — еще, еще», и в эту же минуту почувствовал удар[694] выше соска. «Это — ничего, ну его», сказал он сам себе в первую секунду удара. Еще бодрее он стал духом, но вдруг силы его ослабели и он упал.
«Это — настоящая. Это — конец», в ту же минуту сказал он себе. «А жалко. Что теперь.[695] Еще что-то, еще что-то было хорошего.[696] Досадно», подумал он. Солдаты подхватили его.[697]
— Бросьте, ребята. Не выходи из рядов, — сказал еще князь Андрей, сам не зная зачем он говорил это, но в ту же минуту дрожа, чтобы они исполнили его приказание.
Они не послушались и понесли его.
«Да, что-то нужно было еще».[698]
Солдаты принесли его к лесу, где стояли фуры и где был перевязочный пункт.
Перевязочный пункт состоял из трех раскинутых с завороченными полами палаток на краю березника. В березнике стояли фуры и лошади. И лошади в храпугах ели овес, и воробьи слетались к ним и подбирали просыпанное точно так же, как будто ничего не было особенного в том, что происходило вокруг палаток. Вокруг палаток больше, чем на две десятины места, лежали окровавленные тела живых и мертвых; вокруг лежащих с унылыми и испуганными лицами стояли толпы солдат-носильщиков, которым нельзя было отходить от этого места. Они стояли, кури[ли] трубки, опираясь на носилки. Несколько начальников распоряжалось порядками, 8 фельдшеров и 4 доктора перевязывали и резали в 2-х палатках. Раненые ожидали по часу и более своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки и бредили. Сюда же принесли князя Андрея и как п[олкового] к[омандира], шагая через перевязанных раненых, пронесли его ближе к палатке и положили у ее края.
Он был бледен, съежился весь и, стиснув тонкие губы, молчал, блестящими, открытыми глазами оглядываясь вокруг. Он сам не знал отчего, оттого ли, что сражение было проиграно, оттого ли, что[699] он желал жить, и оттого ли, что так много было страдающих, но ему хотелось плакать, и не слезами отчаяния, а добрыми, нежными слезами. Что-то жалкое и детски-невинное было в его лице. И, вероятно, от этого его трогательного вида доктор, еще не окончив делаемую операцию,[700] два раза оглянулся на него.
До князя Андрея не скоро дошло дело. Шесть человек докторов в фартуках,[701] все в крови и в поту, работали. Офицер какой-то отгонял солдат, приносивших раненых.[702]
«Разве не всё равно теперь? — думал князь Андрей. — А может быть...» и он смотрел на того, которого перед ним резали доктора. Это был татарин-солдат с коричневой голой спиной, из которой ему вырезали пулю. (Князь Андрей вспомнил то мясо, которое было в реке.) Татарин страшно кричал. Доктор отпустил ему руки и накинул на него шинель и[703] подошел к князю Андрею. Они переглянулись друг с другом и что-то оба поняли. Князю Андрею стыдно и холодно было, когда, как с маленького, с него снимали панталоны.[704] Его стали сондировать и вынимать пулю, и он[705] почувствовал новое чувство холода и смерти, которое было сильнее, чем боль.[706]
* № 181 (рук. № 89. T. III, ч. 2, гл. XXVIII).
Главный источник людских заблуждений состоит в отыскивании и определении причин[707] явлений жизни человеческой — тех органических, жизненных явлений, которые вытекают из совокупности бесчисленного количества необходимостей. Вольтер, кажется, сказал, что не было бы Варфоломеевской ночи, ежели бы у короля не было запора. Это столько же справедливо, как и то, что, ежели бы не было всех тех волнений, предшествующих Варфоломеевской ночи, то у короля желудок действовал бы исправнее. Столько же справедливо, как и то, что причина Варфоломеевской ночи был фанатизм средних веков, была интрига католиков и т. д. и т. д., о чем можно справиться во всех историях. Факт Варфоломеевской ночи есть одно из тех жизненных явлений, которое совершается неизбежно по предвечным законам, свойственным человечеству — убивать в среде своей лишнее число людей и подводить под это совпадающие с этим убийством свои страсти. Статистика преступлений показывает, что человек, думающий, что он убивает свою жену, потому что она изменила ему, исполняет только[708] общий закон, по которому он должен пополнить число убийц в статистическом отчете. Самоубийца, лишающий себя жизни по самым сложным философическим соображениям, исполняет только тот же закон. Это относится до личности человека. Но общество человеческое, всё человечество, кроме[709] законов, управляющих их личностью, подлежат еще законам[710], управляющим обществами, группами человечества (группами, определяемыми не по государственному различию, так что Баден не составляет отдельной группы,[711] но по управляемости ими одними началами) и всем человечеством.
В этих обществах есть такая же необходимость больших убийств — войны, как и необходимость убийств для отдельных лиц, и точно так же, как и для самоубийства и убийства, частью ум и воображение человека подделывают причины, частью совпадают обстоятельства, принимаемые за причины, так и [в] обществах совершается то же.
Человек, как пчела и муравей, не могут быть рассматриваемы только как личности. Только общество людское есть целый организм, подчиненный таким же законам, как организм улья и муравейника. Для того, чтобы яснее понять это, посмотрите на мелкие общества людей, стоящих на низкой степени развития (там легче видеть от несложности условий), и дальше от нас, вследствие чего мы независимо можем смотреть на них, посмотрите на любое село. Каждый дом, двор, чулан, лавка, образ, чашка, ложка, одежда, еда, всё устроено точно так же у одного, как у другого. Весенний день вы видите из одного двора, из другого, точно так же, с теми же орудиями выезжают мужики сеять. Они не сговаривались, но думали об этом, но точно так же, как одна пчела, за ней другая из другого улья, как будто говоря: ребята, на работу, уже полетели, вылетели пчелы и возвратились с калошкой, точно так же выехали и вернулись мужики, или бабы пошли брать замашки, или мыться к празднику. Как после 19 февраля мы все, помещики, углубились в новые условия жизни, вникали, отыскивали, думали, что мы только разумным путем доходим до вступления в новые условия и что же: из Пензенской губернии встречались с Тульскими и, не перебивая один другого, говорили всё то же, одно и то же, как сыновья, нечаянно все подарившие по зонтику матушке. Все говорили, что на сходках надо быть требовательнее, а никак не великодушными, что[712] лучше всего исполу, что батраки разорительны, что надо уменьшать запашки и т. д. и т. д. Всё это есть муравейная сторона, стадная сторона жизни. Для того, чтобы вполне понять возможность заблуждаться в непризнании этих общих стихийных законов, управляющих человечеством, необходимо понять[713] свойства человека.