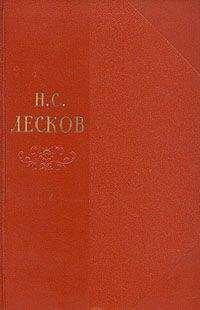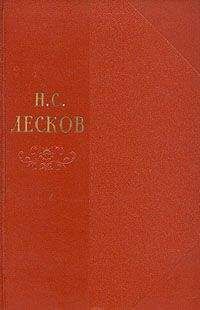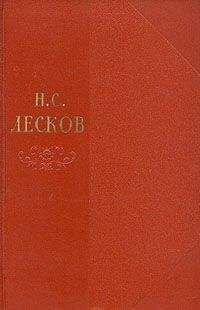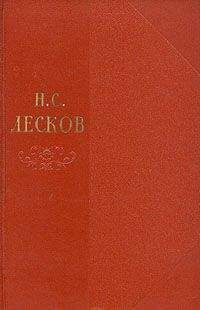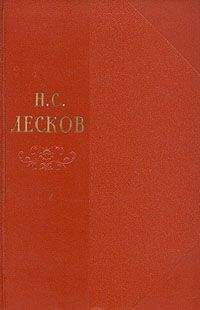Николай Лесков - Том 2
— Ничего, дышит спокойно и спит. Авось, ничего не будет худого. Давай ложиться спать, Помада. Ложись ты на лавке, а я здесь на столе прилягу, — также шепотом проговорил доктор.
— Нет, я не лягу.
— Отчего?
— Мне не хочется спать.
— Ну, как знаешь, а я лягу.
И доктор, положив под голову несколько книг «О приходе и расходе хлеба снопами и зерном», лег на стол и закрылся своим полушубком.
— Что бы это такое значило? — прошептал, наклоняясь к самому уху доктора, Помада, тоже снявший свои сапоги и подкравшийся к Розанову совершенно неслышными шагами, как кот из хрустальной лавки.
— Что такое? — спросил шепотом доктор, быстро откинув с себя полушубок.
Помада повторил свой вопрос.
— А, шут этакой! Испугал совсем. Я думал, уж невесть что делается.
— Ну да, я виноват. Я это так шел, чтоб не слышно. Ну, а как ты думаешь, что бы это такое значило?
— Я думаю, что ступай ты спать: успеем еще узна ть. Что тут отгадывать да путаться. Спи, Утро вечера мудренее.
Глава двадцать первая Глава, некоторым образом топографически историческаяГоворят, что человеческое жилище всегда более или менее точно выражает собою характер людей, которые в нем обитают. Едва ли нужно доказывать, что до известной степени можно допустить справедливость этого замечания. Наблюдательный и чуткий человек, осмотревшись в жилье людей, мало ему знакомых или даже совсем незнакомых, по самым неуловимым мелочам в обстановке, размещении и содержании этого жилья чувствует, что здесь преобладает любовь или вражда, согласие или свара, радушие или скупость, домовитость или расточительность.
Когда люди входили в дом Петра Лукича Гловацкого, они чувствовали, что здесь живет совет и любовь, а когда эти люди знакомились с самими хозяевами, то уже они не только чувствовали витающее здесь согласие, но как бы созерцали олицетворение этого совета и любви в старике и его жене. Теперь люди чувствовали то же самое, видя Петра Лукича с его дочерью. Женни, украшая собою тихую, предзакатную вечерю старика, умела всех приобщить к своему чистому празднеству, ввести в свою безмятежную сферу.
До приезда Женни старик жил, по собственному его выражению, отбившимся от стада зубром: у него было чисто, тепло и приютно, но только со смерти жены у него было везде тихо и пусто. Тишина этого домика не зналась с скукою, но и не знала оживления, которое снова внесла в него с собою Женни.
С приездом Женни здесь все пошло жить. Ожил и помолодел сам старик, сильнее зацвел старый жасмин, обрезанный и подвязанный молодыми ручками; повеселела кухарка Пелагея, имевшая теперь возможность совещаться о соленьях и вареньях, и повеселели самые стены комнаты, заслышав легкие шаги грациозной Женни и ее тихий симпатичный голосок, которым она, оставаясь одна, иногда безотчетно пела для себя: «Когда б он знал, как пламенной душою» или «Ты скоро меня позабудешь, а я не забуду тебя»*.
В восемь часов утра начинался день в этом доме; летом он начинался часом ранее. В восемь часов Женни сходилась с отцом у утреннего чая, после которого старик тотчас уходил в училище, а Женни заходила на кухню и через полчаса являлась снова в зале. Здесь, под одним из двух окон, выходивших на берег речки, стоял ее рабочий столик красного дерева с зеленым тафтяным мешком для обрезков. За этим столиком проходили почти целые дни Женни.
— Рукодельница наша барышня: все сидит, все шьет, все шьет, — приданое себе готовит, — рассказывала соседям Пелагея.
Женни, точно, была рукодельница и штопала отцовские носки с большим удовольствием, чем исправникова дочь вязала бисерные кошельки и подставки к лампам и подсвечникам. Вообще она стала хозяйкой не для блезиру, а взялась за дело плотно, без шума, без треска, тихо, но так солидно, что и люди и старик отец тотчас почувствовали, что в доме есть настоящая хозяйка, которая все видит и обо всех помнит.
И стало всем очень хорошо в этом доме.
Из окна, у которого Женни приютилась с своим рабочим столиком, был если не очень хороший, то очень просторный русский вид. Городок был раскинут по правому, высокому берегу довольно большой, но вовсе не судоходной реки Саванки, значащейся под другим названием в числе замечательнейших притоков Оки. Лучшая улица в городе была Московская, по которой проходило курское шоссе, а потом Рядская, на которой были десятка два лавок, два трактирных заведения и цирюльня с надписью, буквально гласившею:
«Сдеся кров пускают и стригут и бреют Козлов».
Знаков препинания на этой вывеске не было, и местные зоилы* находили, что так оно выходит гораздо лучше.
Потом в городе была еще замечательная улица Крупчатная, на которой приказчики и носильщики, таская кули, сбивали прохожих с ног или, шутки ради, подбеливали их мучкой самой первой руки; да была еще улица Главная. Бог уж знает, почему она так называлась. Рассказывали в городе, что на ней когда-то стоял дом самого батюшки Степана Тимофеевича Разина, который крепко засел здесь и зимовал со своими рыцарями почти целую зиму. Теперь Главная улица была знаменита только тем, что по ней при малейшем дожде становилось море и после целый месяц не было ни прохода, ни проезда. Затем шли закоулочки да переулочки, пересекавшие друг друга в самых прихотливых направлениях. Тут жили прядильщики, крупчатники, мещане, занимавшиеся поденной работой, и мещане, ничем не занимавшиеся, а вечно полупьяные или больные с похмелья. С небольшой высоты над этою местностью царил высокий каменный острог, наблюдая своими стеклянными глазами, как пьет и сварится голодная нищета и как щиплет свою жидкую беленькую бородку купец Никон Родионович Масленников, попугивая то того, то другого каменным мешочком.
— Сейчас упеку, — говорит Никон Родионович: — чувствуй, с кем имеешь обращение!
И покажет рукою на острог.
Народ это очень чувствовал и не только ходил без шапок перед Масленниковыми хоромами, но и гордился им.
— У нас теперь, — хвастался мещанин заезжему человеку, — есть купец Никон Родионович, Масленников прозывается, вот так человек! Что ты хочешь, сейчас он с тобою может сделать; хочешь, в острог тебя посадить — посадит; хочешь, плетюганами отшлепать или так в полицы розгам отодрать, — тоже сичас он тебя отдерет. Два слова городничему повелит или записочку напишет, а ты ее, эту записочку, только представишь, — сичас тебя в самом лучшем виде отделают. Вот какого себе человека имеем!
— Вот пес-то! — щуря глаза, замечал проезжий мужик.
— Да, брат, повадки у него никому: первое дело, капитал, а второе — рука у него.
— Н-да, — вытягивал проезжий.
— Н-да! — произносил в другой тон мещанин.
— Ишь, хоромы своротил какие! — кричал мужик, едучи на санях, другому мужику, стоявшему на коленях в других санях.
— Страсть, братец ты мой!
— А вить что? — наш брат мужик.
— Дыть господь одарил, — вздыхая, отвечал задний мужик.
— Известно: очень уж, говорят, он много на церквы жертвует.
— Только уж обмеру у него на ссыпки очень тоже много, — замечал задний мужик.
— Обмеру, точно, много, — задумчиво отвечал передний.
У часовенки, на площади, мужики крестились, развязывали мошонки, опускали по грошу в кружку и выезжали за острог, либо размышляя о Никоне Родионовиче, либо распевая с кокоревской водки*: «Ты заной, эх, ты заной, ретивое».
Затем, разве для полноты описания, следует упомянуть о том, что город имеет пять каменных приходских церквей и собор. Собор славился хором певчих, содержимых от щедрот Никона Родионовича, да пятисотпудовым колоколом, каждый праздник громко, верст на десять кругом, кричавшим своим железным языком о рачительстве того же Никона Родионовича к благолепию дома божия.
Все уездные любители церковного пения обыкновенно сходились в собор, к ранней обедне, ибо Никон Родионович всегда приходили помолиться за ранней, и тут пели певчие. Поздней обедни Никон Родионович не любили и ядовито замечали, что к поздней обедни только ходят приказничихи хвастаться, у кого новые башмаки есть.
Да еще была в городе больница, в которой несчастный Розанов бился с непреодолимыми препятствиями создать из нее что-нибудь похожее на лечебное заведение. Сначала он, по неопытности, все лез с представлениями к начальству, потом взывал к просвещенному вниманию благородного дворянства, а наконец, скрепя сердце и смирив дух гордыни, отнесся к толстому карману Никона Родионовича. Никон Родионович пожертвовали два десятка верблюжьих халатов и фонарь к подъезду, да на том и стали. Потребляемых вещей Масленников жертвовать не любил: у него было сильно развито стремление к монументальности, он стремился к некоторому, так сказать, даже бессмертию: хотел жить в будущем. Хоть не в далеком, да в будущем, хоть пока халаты износятся и сопреет стена, к которой привинтили безобразный фонарь с скрипучим флюгером, увеличивавшим своим скрипом предсмертную тоску замариваемых в докторово отсутствие больных.