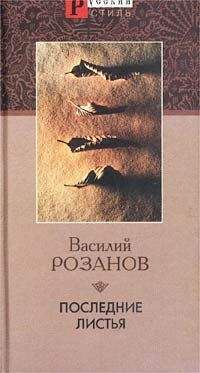Василий Авенариус - Юношеские годы Пушкина
Неудивительно, что и стрелы лицейских эпиграмм с этого времени часто обращались против бедного Хвостова.
Так-то новое веяние в "большой литературе" отозвалось и в тесных стенах царскосельского лицея.
Глава XII
Лицейский Дон Кихот
Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, Боже!
"Евгений Онегин"— Где ж мертвец?
Вон, тятя, э-вот!
"Утопленник"В том, что Пушкин, может быть даже очень скоро, удостоится чести приема в «Арзамас», никто из его товарищей-литераторов уже не сомневался. Заветною мечтою каждого из них было попасть туда же, и все они еще усерднее прежнего принялись царапать пером. Но так как избранным из них открылся уже доступ в "большую печать", то единственный в 1815 году собственный их рукописный журнал — "Лицейский мудрец" — имел не более двух-трех постоянных и притом слабых сотрудников.[29]
Вот два куплета самого удачного, по нашему мнению, стихотворения в «Мудреце», так и озаглавленного — «Мудрец». Оно названо подражанием Жуковскому, но составляет, вернее, пародию на известный роман Жуковского "Певец":
На кафедре, над красными столами,
Вы кипу книг не видите ль, друзья?
Печально чуть скрипит огромная доска,
И карты грустно веют[30] над стенами.
На печке дудка и венец.
Восплачемте, друзья: могила
Прах мудреца на век сокрыла.
Бедный мудрец!
Нет мудреца! И дудка перестала
Приятный глас повсюду разносить.
И в классах скорбно все — и все молчит,
И, кажется, доска чернее стала!
Из печки дым коптит венец,
Его колебля над могилой,
И дудка вторит им уныло:
Бедный мудрец![31]
Надгробные куплеты эти на "Лицейского мудреца" как бы предвещали его скорую кончину. Как, в самом деле, трудно было «Мудрецу» завербовать себе сотрудников, — нагляднее всего свидетельствуют бесплодные воззвания издателя "К читателям" в № 2 и 3:
"Право, любезные читатели, я чрезвычайно рассержен на вас (говорится в № 2). Как! Ни одного пособия не дать мне; заставить меня одного издавать журнал! Это стыдно! Весьма стыдно! После такого озорнического поступка я с вами и говорить не хочу!..
Что, читатели? Вы меня кличете? Так и быть; что вы только можете сказать в свое оправдание?
— Дела много!..
Неправда; на этой неделе и уроков не было. Немецкая бессмыслица не трудна…
— Предметов не было…
Вздор! Пустое! На этой неделе был царский день… Так! Вижу, вас лень одолела, мошенница… Только слушайте, любезные читатели, я вас на этот раз прощу; только хорошенько посмейтесь над тем, что только услышите в нашем журнале; но если же (страшитесь моего мщения!), если же для будущего нумера вы мне ничего не пришлете стихотворного или прозаического, если же ваши Карамзины не развернутся и не дадут мне каких-нибудь смешных разговоров, то я сделаю вам такую штуку, от которой вы не скоро отделаетесь. Подумайте…
— Он не станет издавать журнала…
Хуже!
— Он натрет ядом листочки "Лицейского мудреца"… Вы почти угадали: я подарю вас усыпительною балладою г-на Гезеля!!!"
Гезель же был не кто иной, как злосчастный Кюхельбекер, которому везде и от всех доставалось.
Но первое воззвание, видно, ни к чему не повело. № 3 «Мудреца» начинается еще более сильными вздохами:
"Ох! охти мне! — Рифматизм!.. Горло болит; чуть-чуть дышу… Право, любезные читатели, я чрезвычайно болен, а вы заставляете меня говорить. Я думал, что болезнь моя избавит меня от того, чтоб издавать журнал; но не тут-то было. Вызвали меня из убежища, приставили нож к горлу и кричат: "Издавай!..""
В этом же 3-м номере статья «Апология» (защитительная речь) заканчивается знаменательными словами: "…Еще скажу вам, что я чрезвычайно люблю спать; потому что, когда буду великим Канцлером России, то спать будет некогда, а теперь хочу наспаться на всю жизнь. Вы ожидаете от меня длинной Апологии; но я вам ничего не скажу, не потому, чтобы не было доказательств, но потому, что мне чрезвычайно спать хочется… Что-то зевается… Ох!.. ах!., ух!.."
Против последнего слова сделана внизу страницы такая выноска: "Просим любезных читателей извинить г-на Писаку, ему хотелось спать, и он набредил целый лист".
Из приведенных нами выписок очевидно, как понемногу, вместе со своими сотрудниками, засыпал "Лицейский мудрец", пока, в 1816 году, он не заснул навеки.
Временному оживлению «Мудреца» в конце 1815 года способствовал (совершенно, впрочем, помимо своей воли) Дон Кихот лицейский, Кюхельбекер. Поощряемый Жуковским, он хотя и упражнялся теперь преимущественно в переводах с русского на свой родной, немецкий язык, но не мог, однако, отказаться и от русского стихотворства. Даже на лекциях нередко обуревало его вдохновение. Раз, вызванный к доске профессором Карцевым, он второпях обронил на пол какой-то листок. Пушкин, к ногам которого упал листок, не замедлил поднять его и припрятать. Возвратясь от доски на свое место, Кюхельбекер начал рыться у себя в столе, сунулся в стол к соседу, заглянул и под лавку — все, конечно, напрасно.
— Donner Wetter…[32] — ворчал он про себя.
— Да что ты потерял, Кюхля? — спрашивали его соседи.
— Ничего! — коротко отрезал он и уткнулся в книгу.
Он был уверен, что по обычной своей рассеянности заложил стихи куда-нибудь в тетрадь или книгу и что они после сами собой найдутся. Они, точно, нашлись, но не сами собой и не там, где он думал.
Едва лицеисты собрались к обеду в столовой и принялись за суп, как Пушкин зазвенел о стакан ложкой и провозгласил:
— Внимание, господа! В математическом классе у нас объявился нынче стихотворный найденыш. Кто его к нам подбросил — одному Аллаху известно. Но яблоко, говорят, падает недалеко от дерева, и потому по яблоку мы, может быть, доберемся и до дерева. Развесьте уши и утешьте души:
Взликуйте, русские народы,
Камчатки и Карпатских гор,
Дуная, Вислы воды,
Мы днесь составим цельный хор.
Все племени славенска, члены
Во сердце с правдою своем,
Собравшись под свои знамены,
Одним языком воспоем.
Страшилища Европы пали,
Кичливый свержен мира враг,
Как те, что Бога воевали,
Злодеям-извергам на страх.
Гомерический хохот был ответом на нескладные, безграмотные вирши. Кто был автором их — ни для кого не осталось уже тайной, потому что Кюхельбекер хотя и скорчил самую невинную рожу, но с каждым стихом все более багровел в лице и, наконец, нервически расплескал ложкой суп на скатерть.
— Молодец, Виленька! Вот так отличился! — хохотали вокруг товарищи.
— Чего вы пристали!.. Это вовсе не я… — неумело протестовал Виленька.
— Виден сокол по полету, Дон Кихот по поступи. Второй куплет особенно великолепен. Прочти-ка его еще раз, Пушкин!
— Все племени славенска, члены
Во сердце с правдою своем…
— Говорят же вам, что это не я… — со слезами уже в голосе перебил Кюхельбекер.
— Ну полноте, господа, — заговорил Вальховский. — Спрячь стихи, Пушкин, или лучше дай их сюда.
— Нет, брат, не отдавай: он их разорвет! — крикнул Данзас. — Дай-ка лучше мне: это такой клад для "Мудреца"…
Пушкин перебросил ему листок через стол. Кюхельбекер сорвался со стула, чтобы на лету поймать листок, но, по неловкости, он опрокинул только графин с водой, которая разлилась по всему столу. Листок же между тем бесследно исчез.
Дежурный гувернер, который несколько раз безуспешно старался унять шумящих, серьезно внушил им теперь «перестать» и кушать, если они не желают, чтобы он послал сейчас за Степаном Степановичем, т. е. за грозным новым надзирателем Фроловым. Все взялись опять за ложки, за исключением одного Кюхельбекера: он, видно, окончательно лишился аппетита и с сердцем отодвинул от себя тарелку.
— Что же вы не кушаете, сеньор Ламанчский? — спросил его ближайший сосед, граф Броглио.
— Не хочу… — был глухой ответ.
— Однако, приказание начальства! Не слышал разве?
— Отвяжись, говорят тебе!
— Ну уж нет, как хочешь: против воли начальства никак невозможно.
С этими словами неугомонный снова пододвинул к Кюхельбекеру его тарелку и ласковым голосом дядьки, увещевающего строптивого мальчугана, продолжал:
— Соседушка мой свет, пожалуйста, покушай!
— Оставь меня, Броглио, прошу тебя… — умоляющим уже тоном проговорил Кюхельбекер.
Тот, однако, все не унимался:
— Ты сыт по горло?
— Да, да…
— И полно, что за счеты,
Лишь стало бы охоты…
— Да у него нет, кажется, хлеба? — заметил с другого конца стола Пушкин. — На вот, Кюхля, получай!