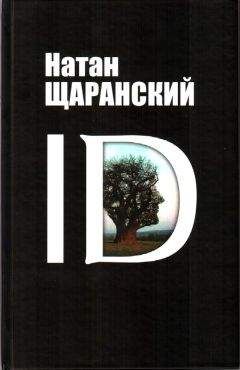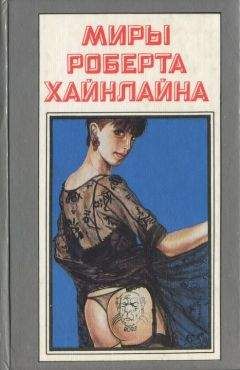Натан Щаранский - Не убоюсь зла
Все это была чушь, нелепая фантазия, но она завладела мной полностью. Итак, в кабинете вместо "я и следователь" на какой-то момент - только "я". Сколько мне надо времени? Считаю: сбросить ботинки - секунда; открыть или разбить окно - три секунды; допрыгнуть до трубы, вскарабкаться по ней, вылезти на крышу - около минуты. Бесшумно пробежать по черепице на другую сторону (вот для чего надо было сбросить ботинки) - еще полминуты. Спуститься по водосточной трубе с противоположной стороны, а затем броситься в ближайший переулок, схватить такси...
Но как объяснить таксисту, что я без ботинок и денег у меня нет? Воображение особенно разыгрывалось после отбоя, когда я засыпал, или утром - перед самым подъемом. Итак, я говорю таксисту: мол, случайно захлопнулась дверь - надо срочно ехать к родичам за ключами, там и расплатимся. Нет, ботинки, пожалуй, я возьму с собой и надену после приземления. Для остального такое объяснение сойдет.
Но куда ехать? Как только мое бегство будет замечено, все дома друзей окажутся под колпаком. После долгих переборов решаю ехать к нашей дальней родственнице. Ее квартира вроде бы должна быть вне подозрений. Продумываю наиболее безопасный маршрут по городу, в обход центра, в обход больших магистралей. Недалеко от этой родственницы живет мой друг, отказник Феликс Кандель. Я посылаю к нему "гонца". Он приглашает к себе нескольких корреспондентов (может, и родителей? Нет, их трогать нельзя. Они-то наверняка будут под пристальным наблюдением). Я прихожу к Феликсу, рассказываю о своем деле и... вместе с корреспондентами иду в КГБ. Ведь мое дело - разоблачить КГБ, а не прятаться. Уходить в "подполье" я не собирался: как тогда бороться за выезд в Израиль?
Начинался новый день. Я решительно отбрасывал все эти полубредовые мечтания, но, уходя к следователю, вдруг замечал, что... забыл зашнуровать ботинки (чтобы легче было снять при побеге). Я говорил себе: ладно, что время тратить, завяжу их в кабинете следователя. Но почему-то делал это всегда уже в конце допроса, когда должен был возвращаться в камеру. Сердился на себя, издевался над своими фантазиями, но - опять забывал завязать шнурки... И так - до тех пор, пока труба не оборвалась окончательно (или же ее сняли за ненадобностью).
Готовность достойно пройти до конца свой путь, не рассчитывать на случайность, везение, не жить каждую минуту в ожидании чудесного избавления как-то странно сосуществовала с почти бессознательной решимостью использовать любой шанс, который может мне предоставить судьба для достижения моих целей: не помогать, изучить, разоблачить.
* * *
Как это не покажется удивительным, в Лефортовской тюрьме была уникальная библиотека мировой классической литературы.
В конце тридцатых годов, в разгар сталинского террора, один за другим исчезали из жизни московские интеллигенты: и те, кто уцелел от старых времен, и молодая поросль - лояльные граждане, преданные режиму, самозабвенно создававшие советскую культуру, воспитывавшие "нового человека" и так и не успевшие понять, почему гомункулус поднял на них руку. Все их имущество конфисковывалось - разумеется, вместе с библиотеками; в итоге на складах КГБ оказалась масса ценнейших книг, заполнивших полки библиотек различных учреждений системы госбезопасности, в том числе и Лефортовской тюрьмы. Понятно, что лучшие из них руководство отобрало для себя, - в кабинете Петренко, например, я видел уникальные дореволюционные собрания сочинений классиков в издании Брокгауза и Эфрона. Конечно, со временем все больше книг приходило в негодность и списывалось, а то и просто разворовывалось всякой мелкой сошкой. Даже за те шестнадцать месяцев, что я провел в Лефортово, можно было заметить постепенное исчезновение произведений мировой классики и замещение их современной литературой: производственными романами, книгами о передовиках, о героях целины, биографиями советских руководителей, военачальников и космонавтов. И все же запасы, сделанные в тридцатых годах, оказались достаточно велики, чтобы и нам, посаженным в Лефортово через сорок лет, кое-что перепало.
Интересно, что дореволюционные издания были в гораздо лучшем состоянии, чем скажем, книги издательства "Academia", выпускавшиеся перед войной. Дело в том, что в этих последних были вырваны предисловия или комментарии, вырезаны или вычеркнуты фамилии из перечня лиц, готовивших книгу к изданию, - все эти люди оказались "врагами народа", и кагебешные библиотекари с помощью ножниц и чернил приводили свои книжные фонды в соответствие с новой реальностью, В изданиях же времен проклятого царизма имен врагов народа не было, потому-то они и остались нетронутыми. На всех без исключения книгах имелись многочисленные печати с таким текстом: "Внутренняя тюрьма НКВД. Отметки, надписи и подчеркивания в тексте карандашом, спичкой или ногтем строго запрещены и ведут к немедленному прекращению выдачи книг". Это -для пресечения возможной связи между камерами.
С детства я не выпускал книги из рук. Читал я почти исключительно классику. Но от юношеского чтения Гомера, Вергилия и других античных авторов у меня в голове оставалось ровно столько, сколько нужно, чтобы понимать расхожие метафоры типа "между Сциллой и Харибдой". Даже Дон-Кихот был лишь символом: благородный борец с ветряными мельницами, равно подходящий и для книги, и для балета, и для оперы, и для мюзикла. Настоящая литература начиналась для меня где-то с XVIII века.
Но сейчас время стало двигаться по-другому. Некуда больше нестись, можно и нужно тщательно и неторопливо все обдумывать, взвешивать, анализировать, подводить итоги, прощаться со многим, а может быть, и со всем. И оказалось, что этот новый масштаб времени и иное пространство гораздо лучше подходят для бесед со "знакомыми незнакомцами": Гомером, Софоклом, Аристофаном, Вергилием, Сервантесом, Рабле и многими другими.
Поначалу, убедившись, что моих любимых Достоевского, Чехова, современных западных писателей в библиотеке практически нет, я, совсем в духе прежней жизни, решил: "Ладно, буду заполнять пробелы в образовании, 'освежать в памяти забытые сюжеты". И первые дни и недели буквально продирался сквозь толщу и пыль времен, стараясь убежать хотя бы ненадолго из своей камеры. Продирался с трудом, читал, внимательно комментарии, сетуя на вырванные предисловия, то есть изучал иную жизнь, иную литературную традицию с большого расстояния - а значит, оставался на своем месте.
Прорыв произошел случайно, на сущем пустяке. Читал какую-то комедию Аристофана, где один герой говорит другому что-то вроде: "Ага, у тебя коринфская ваза? Так ты изменник?" (Коринф тогда воевал с Афинами - родиной Аристофана), рассмеялся и вдруг ощутил общность своей судьбы с судьбами людей, от которых я отделен двадцатью пятью веками. Контакт наладился.
"Многоумный" Одиссей, с его упрямством и любопытством на краю бездны (иногда во время следствия мое любопытство было так сильно, что, казалось, полностью вытесняло всякий страх); выламывающийся из всех рамок могучий хохочущий Гаргантюа; не желающая отказаться от простых и вечных истин Антигона; Дон-Кихот, живущий подлинной жизнью фантазера на фоне играющих свою скучную роль трезво мыслящих статистов; Сократ... - все они как будто спешили ко мне на помощь из разных книг, из разных стран и веков на помощь со словами: "Да, в этом мире на самом деле нет ничего нового, но зато как много в нем чудесных вещей, ради которых стоит жить и не жалко умереть".
Солонченко настойчиво советовал мне читать УК и УПК. Но я не торопился, не желая "играть на чужом поле". Конечно, в конце концов я эти книги просмотрел. А когда пришлось быть собственным адвокатом, то, пожалуй, ощутил все же в некоторых вопросах недостаток юридического образования. Но безусловно, чтение книги, скажем, Ксенофонта о суде над Сократом принесло мне гораздо больше пользы, чем штудирование любых кодексов.
8. ЧЕТВЕРТОЕ ИЮЛЯ: ОТ ХУПЫ ДО КАРЦЕРА
Как ни важны были книги, но лучшим оружием против изоляции оставалась моя память, тем более, что приближалось четвертое июля - особый день в моей жизни, третья годовщина нашей с Авиталью свадьбы. С тех пор каждый год в этот день случалось что-то важное, остававшееся в моей судьбе знаменательной вехой. Чем ближе подходила эта дата, тем больше думал я о Наташе, мысленно возвращаясь в то памятное лето семьдесят четвертого года...
Когда мы пришли в загс и попросили расписать нас, служащая предупредила, что придется ждать месяц. Однако уже на следующий день она позвонила нам и сказала:
- Я очень извиняюсь, но произошла ошибка. Из-за большой разницы в возрасте вы записаны в другую очередь, где ждут четыре месяца.
Я был вне себя от возмущения и досады. В самом разгаре обсуждение поправки Джексона; мы, окрыленные этим событием, преисполнились оптимизма и ожидали со дня на день разрешения на выезд, и четыре месяца казались нам сейчас вечностью. Мы не сомневались, что задержка эта инспирирована охранкой: разница в возрасте составляла у нас всего три года, и даже в таком кафкианском государстве, как СССР, отсрочка не могла быть вызвана подобной причиной.