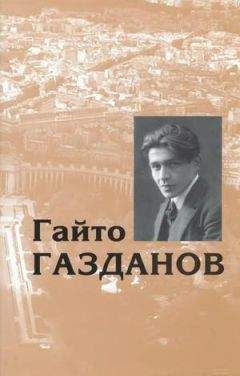Гайто Газданов - Ночные дороги
Мне казалась особенно подчеркнутой вся нелепость этой трагедии, жертвой которой стала Сюзанна, но Платон не согласился со мной и тут. По его мнению, один факт, что Сюзанна была проституткой, оставлял широкое поле для самых разных и трагических предположений об ее судьбе.
— В отправном пункте мы видим уже аномалию, — сказал он. — Почему вы хотите, чтобы остальное было естественно?
— Да, конечно. Но все-таки — Сюзанна, исчезновение русского генерала и Ницше? Что может быть нелепее?
— Если бы мы не были ежедневными свидетелями самых нелогичных и неожиданных на первый взгляд соединений, — жизнь свелась бы к алгебре. Ницше? — сказал он вдруг, точно задавая вопрос самому себе. — Он был плохой философ, конечно, и человек до наивности примитивный. Но в одном вы правы, он был все-таки менее примитивен, чем Сюзанна.
— А Федорченко с его вопросом о том, зачем мы живем и что такое завтра?
— Это признаки душевной агонии, — сказал Платон. — Стакан белого, пожалуйста. Да, такие же признаки агонии, как ослабевающая деятельность сердца или резкое понижение температуры.
В это время кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся и увидел незнакомого человека, который спросил, я ли шофер такси, стоящего перед кафе.
— Желаю вам спокойной ночи, дорогой друг, — сказал я Платону. — Мы еще вернемся к этому вопросу, если вы ничего не имеете против.
Платон пожал мне руку, мы вышли с моим клиентом, который ехал на бульвар Барбес. Он оказался журналистом, у него было насмешливое лицо с маленькими, быстрыми глазами. Сев рядом со мной и сказав мне адрес, он спросил, когда автомобиль двинулся:
— Можно узнать, простите за нескромность, о чем именно вы собирались говорить с вашим собеседником?
— О Ницше, — коротко сказал я.
— Вы поссорились с вашими родственниками?
— Я? Нет, я никогда с ними не ссорился.
— Почему же вы ездите на такси?
— Я предпочел бы ездить на "Роллс-Ройсе", но я, к сожалению, лишен этой возможности.
— Хорошо, хорошо, я не настаиваю.
И когда мы подъезжали к тому месту, где он должен был слезать, он вдруг спросил:
— Вы, может быть, иностранец?
— Нет, — сказал я, — я родился на улице Беллевиль, у моего отца там мясная, в 42-м номере, вы ее, может быть, знаете?
— Нет, — ответил он.
И ушел, покачивая головой. Я спустился вниз по бульвару Барбес, потом поехал дальше, к площади Республики. В темном воздухе, одни за другими, появлялись и исчезали круглые фонари, в далеком небе были видны звезды, на стекле передо мной, как в детском оптическом приборе, сверкали и струились то приближающиеся, то удаляющиеся огоньки автомобилей, и танцующие световые линии их отражались в прозрачном, черно-синем фоне. По мере того как проходило время, мне нужно было делать над собой все большее и большее усилие, чтобы заметить, хотя бы на минуту, красоту ночного сочетания светящихся линий, или ровной перспективы бульвара, или, наконец, темно-зеленые, резко освещающиеся автомобильными фарами и мгновенно пропадающие во тьме ветви и листья Булонского леса, на повороте черной аллеи. Париж медленно увядал в моих глазах; это было похоже на то, как если бы я начал постепенно слепнуть и количество вещей, которые я видел, стало бы мало-помалу сокращаться, — вплоть до той минуты, когда наступила бы полная мгла. Это ослепление, однако, внезапно исчезало в мои свободные дни, когда я не работал и ходил пешком по Парижу; тогда он казался мне другим, и те же повороты улиц и скошенные углы домов, которые я знал наизусть, представали предо мной в ином виде, в котором была непривычная каменная прелесть. Даже тогда, когда я сам брал такси и сидел внутри автомобиля, а не за рулем, все представлялось мне другим, и я долго не мог привыкнуть к мысли, что тот или иной аспект Парижа зависит, в конце концов, от таких незначительных изменений и что весь этот городской мир преображается от того, что произошли какие-то незначительные перемещения, не превышающие полутора метров в длину или нескольких сантиметров в вышину.
Эта мысль влекла за собой ее логическое и бесспорное продолжение: существование гигантского количества людей и невероятный факт, что вся эта искусственная и несправедливая система угнетения, рабства и нищеты, эти рикши, эти труженики на рисовых плантациях, шахтеры на ртутных и серных копях, миллионы рабов и десятки миллионов рабочих, — могла продолжаться сравнительно спокойно много лет, и громадные фабрики и роскошные кварталы городов не взлетали в воздух, — весь этот хрупкий и случайный, но, в своем случайном равновесии, постоянный порядок был тоже основан, в конце концов, на бессознательном использовании все того же закона бесконечных изменений в размерах нескольких сантиметров пространства, определяющих всю жизнь огромных человеческих масс. Но я старался не останавливаться на этом; это казалось мне непостижимым почти в такой же степени, как давно, в гимназические годы, представление о бесконечности. И неоднократно мне хотелось, разом, в один короткий день, забыть все, что мне пришлось видеть, испытать и узнать, — для того, чтобы исчезло это тягостное видение мира и заменилось бы каким-либо сверкающим и гармоническим представлением, чем-то вроде сложной и стройной симфонии счастливого человечества, или, в крайнем случае, той наивной схемой, в которую верили многие — и среди них были по-своему умные люди — это идиллическое и убогое построение безнадежного социализма.
Встречаясь с самыми разными людьми, я нередко завидовал их простодушным убеждениям; большинство из них имели определенные взгляды на все — политику, роль культуры, искусство. Меня изумляли речи профессиональных политических ораторов, которые чаще всего были наивными и невежественными людьми и так же твердо верили в свои программы, как мой старичок-профессор — в несуществующие законы той условной науки, которую он преподавал всю жизнь. Все они мне напоминали одного пожилого француза, шофера, которого я видал почти каждую ночь на стоянке. Он начал свою карьеру в очень давние времена, когда автомобилей было чрезвычайно мало — он правил тогда лошадью. Ездить как следует на машине он так и не научился до конца, он никогда не превышал своей постоянной скорости — тридцати километров в час. Несмотря на трудную жизнь, которую он прожил, он сохранил любовь к чтению и философствованию ив его представлении все вопросы решались исключительно просто. Он огорчался оттого, что люди так злы и живут в постоянной вражде друг с другом; все это происходило, по его мнению, потому, что эксплуатация земной площади была нерациональна. "Если бы это от меня зависело, — говорил он, — я бы сказал людям: вы хотите работать? Езжайте в Сибирь, в Аргентину, там вас ждет девственная земля, которой хватит на всех". Что может быть проще? Все другие соображения — национальность, язык, наследственность, соотношение промышленности и земледелия — он считал вещами второстепенными. "Все это выдумали капиталисты, чтобы нас угнетать, — говорил он мне. — Ты этого не понимаешь, так как ты молод; а вот когда поездишь тридцать восемь лет, как я, тогда тебе все станет ясно". По его словам, получалось, что та нехитрая политическая мудрость, которой он достиг, объяснялась именно этим долгим конно-автомобильным стажем; и если бы предположить, что каждый государственный деятель был бы обязан его проделать, то надо полагать, что все шло бы гораздо лучше, чем теперь. В общем, в его представлении рисовалась туманная и прекрасная земледельческая республика, управляемая преимущественно пожилыми людьми, и предпочтительно шоферами. Тогда были бы изменены и законы и соотношение корпораций и профессиональные тряпичники не ненавидели бы его лютой ненавистью за то, что он, не принадлежа к их синдикату, не мог себе отказать в удовольствии — по дороге ранним утром домой, после ночной работы, — тщательно обыскивать те мусорные ящики, которые почему-либо привлекли его внимание. — Ты видишь, как несправедливо устроено государство, — говорил oн, — как неравномерно распределены привилегии. Он имеет право рыться в мусорных ящиках, так как он профессиональный тряпичник, а я не имею, потому что я шофер. Разве это хорошо? Если бы я был в правительстве, я бы Разрешил это всем профессиям без исключения.
И так же, или почти так же, как в его представлении, все сложнейшие человеческие проблемы сводились, в сущности, к удовлетворению его личных желаний, — он был любитель-огородник, любитель-тряпичник, даже любитель-архитектор, потому что он сам построил себе дом из консервных ящиков, обломков кирпичей и досок, кусков железа и жести, — и он говорил: ты видишь, не надо пренебрежительно относиться к отбросам, я из них сделал себе дом, — и действительно, его жилище медленно строилось и возникало, вырастая из мусорных ящиков, и если бы их не существовало, то и дома тоже не было бы, — так же, стало быть, большинство теоретиков этих проблем тоже строили их воображаемый будущий мир, как и он, из такого же случайного и несовершенного материала.