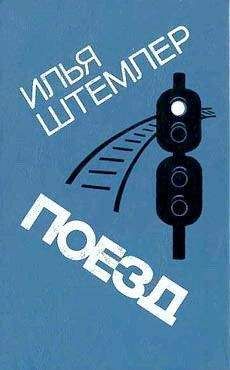Константин Станюкович - Том 3. Повести и рассказы
Артемьеву, казалось, стало лучше. Лихорадка мучила его с более долгими промежутками, он чувствовал себя бодрей, с аппетитом ел кушанье с кают-компанейского стола и пил по две рюмки мадеры в день. По распоряжению доктора, больного с утра выводили наверх, и он проводил там целые дни, лежа большею частью в койке, подвешенной у шкафута — на средней части судна, смотрел на обычную утреннюю чистку, на обычные предобеденные работы и учения, слушал хорошо знакомую артистическую ругань боцмана и окрики офицеров, перекидывался словами с подходившими к нему матросами, — и все это его занимало, приобретая в его глазах какую-то прелесть новизны. Иногда он подолгу глядел своими большими серьезными глазами и на безбрежный сверкавший на солнце океан и на бирюзовую высь неба — глядел и задумывался, словно пытаясь разрешить какую-то загадку, неожиданно возникшую для него после долгого созерцания природы и каких-то новых, странных дум, являвшихся во время долгой болезни.
По временам мысли его витали в воспоминаниях о далекой бедной деревушке с черными избами, о мужичьей жизни, об этом темном лесе, куда он с отцом часто ездил по ночам рубить «божий лес», который почему-то считали казенным, — и тогда скорбное чувство подкрадывалось к сердцу. Он жалел своих, скорбел о тяжкой мужичьей доле; спрашивал себя, отчего бог не ко всем милостив, и снова задумывался, глядя на чудное небо, точно оно могло дать ответ…
Его часто охватывала дремота: он забывался на короткие промежутки, и ему снились сны. В этих сновидениях Артемьев был по-прежнему сильный, здоровый, ретивый матрос, летавший духом на марс, крепивший брамсель или наваливавшийся изо всех сил на весло, когда приходилось на щегольском вельботе отвозить капитана…
И, внезапно просыпаясь, он с грустью чувствовал свою беспомощность и часто с горечью смотрел на свои исхудалые руки, ощупывал свои выдававшиеся ребра, винил доктора за то, что не входит в силу, и каждое утро с трогательной простотой молил бога, чтобы господь послал ему поправку.
Но и в теплых местах поправка не приходила, и больной становился все более нетерпеливым и раздражительным. Но о смерти он не думал, надеясь, что озноб отпустит, наконец, и он опять войдет в силу.
Его только удивляло особое внимание, какое ему теперь оказывали. К нему подходили офицеры и капитан и говорили добрые, обнадеживающие слова. Сам ругатель-боцман, прежде изредка «смазывавший» Артемьева по уху и часто ругавший его, теперь, напротив, нет-нет да и заглянет к нему в койку. И грубый, сиплый голос боцмана звучит непривычной для уха молодого матроса нежностью, хотя боцман как-то сердито хмурит брови, глядя на исхудалое лицо больного. Он скажет два-три слова и, уходя, прибавит:
— Ну, брат, теперь скоро и на поправку. Не рука матросу долго валяться! Бог милостив… Поправишься.
И все — он это чувствовал — как-то особенно относились к нему.
«За что?» — иногда думал он, растроганный таким непривычным вниманием.
И вскоре бедняга узнал «за что», услыхав неосторожный разговор двух матросов о том, что ему, по словам доктора, жить осталось уж немного: «Слава богу, коли ден десять протянет!»
Он обомлел и как-то вдруг весь почувствовал, что это правда и что он не жилец на белом свете.
И скорбные, жгучие слезы тихо скатились с его. славных глаз.
IVАх, какие тяжелые были эти бесконечные, длинные последние ночи в маленькой душной каюте! Сна почти не было. Больной изредка забывался, и снова приходил в себя, и лежал неподвижно, с открытыми глазами, в полутемной каюте, освещенной слабым светом фонаря. Кругом тишина. Слышно лишь бульканье воды у борта да легонькое поскрипывание корвета.
Тоска! Щемящая, безнадежная тоска!
Но забулдыга и пьяница Рябкин не забывал больного в его ночном одиночестве. Каждую ночь, перед вахтой или сменившись с вахты, Рябкин, лишая себя сна, осторожно входил в лазарет, присаживался на пол у койки Артемьева, успокаивал его, старался подбодрить и начинал рассказывать ему свои бесконечные сказки.
Он их рассказывал увлекательно, мастерски, с различными, им самим сочиненными вариантами, и деликатно изменял конец сказки, если он был печальный или оканчивался чьей-нибудь смертью.
И молодой матрос, несколько успокоенный, слушал их и иногда дремал, убаюканный этим тихим, ритмическим кадансом сказочной речи.
Случалось, Артемьев неожиданно прерывал рассказчика и спрашивал:
— Послушай, Рябкин, что я хочу спросить…
— Что, Ваня?
— Как ты думаешь, как будет — на том свете? Тяжело душе или нет?
Рябкин, никогда в жизни не думавший о таких деликатных предметах, на секунду задумывался, но со свойственной ему находчивостью быстро и уверенно отвечал:
— Надо, братец ты мой, полагать, что душе нашего брата будет хорошо… Господским душам будет хуже… это верно… потому им на этом свете очень даже вольготно… Ну, значит, и вали-валом, голубчики, в ад… Сделайте ваше одолжение… Пожалуйте!.. Однако и из нашего звания тоже, я думаю, не всякий в рай… Мне, примерно, голубчик мой, давно в пекле паек готов за то, что я жру это самое винище. Небось, заставят растопленную медь глотать… А силушки нет, милый человек, бросить эту самую водку!.. Вот оно как будет на том свете! — заключил Рябкин, вполне уверенный, казалось, в правильности своих внезапных соображений насчет «того света».
Несколько секунд длилось молчание.
И молодой матрос вновь заговорил:
— Тоже иной раз думается: вот умер человек, а что там?
— Да брось ты глупые мысли. Вот тоже!.. Еще, брат, мы с тобой и на этом свете поживем. А как, братец ты мой, вечор боцман Ваську Скобликова звезданул! В кровь! В самую, значит, носовую часть! — круто переменил Рябкин разговор, желая отвлечь внимание от грустных предметов.
Но Артемьев молчал, оставаясь равнодушен к этому сообщению. Его, казалось, уже не занимали все эти прежде интересовавшие его вещи. Все это представлялось теперь ему каким-то далеким прошлым.
— У вас на фор-брамсели вот тоже… Михайлов брам-горденя не отдал. Ну и костил же его, брат, старший офицер сегодня! Однако всего раз съездил.
Но вместо ответа Артемьев вдруг сказал:
— Не хотца помирать, голубчик, а надо. Так, видно, богу угодно, чтобы меня бросили в океан! — прибавил он с тоской.
— Ведь вот глупый! С чего ты зря мелешь? Да нешто я не понимаю матросского здоровья? Отлично, братец, понимаю: слава богу, двенадцать лет в матросах околачиваюсь… Тоже вот у нас на «Копчике» молодой матросик был и занемог, как ты. Так около году провалялся у нас на клипере, а после в такую поправку пошел, что страсть.
Но эти слова, по-видимому, мало утешали Артемьева. Рябкин это чувствовал и снова начинал сказку.
— Ты бы спать шел, Рябкин.
— Спать? Да быдто неохота спать… Ужо утром высплюсь!
— Ишь ты, сердешный… Жалеешь… Добер… Бог тебе и вино простит!
VКорвет подходил к экватору. Артемьев доживал последние дни. Однажды, рано утром, он попросил к себе в лазарет гардемарина Юшкова, который учил прежде Артемьева грамоте, часто разговаривал с ним, писал от него письма к родителям, и был очень расположен к молодому матросу.
— Простите, барин, что обеспокоил… Исполните последнюю просьбу — напишите домой грамотку… Да вот вещи какие после меня останутся, так чтобы отослать, как вернетесь в Расею…
Гардемарин стал было успокаивать его, но матрос остановил его:
— Полно, голубчик барин! Я знаю, что умру.
И он передал завернутые в тряпочку два золотых и, указывая на байковый платок, две рубахи, башмаки, вязаный шарф и еще кое-какие вещи, собранные на лазаретном столе, просил все это послать отцу с матерью.
— И отпишите им, барин, что я так и так… помер, и что завсегда был покорным их сыном, и буду на том свете молиться за них и за всех хрестьян… И сестрицам, и братцам, и всей деревне нижайший поклон… Напишете, барин?
— Напишу! — отвечал гардемарин, глотая слезы.
— А другую грамотку отпишите, барин, в Кронштадт, Авдотье Матвеевне Николаевой… А как вернетесь, — отдайте ей вот эти гостинцы.
И он указал глазами на шелковый красный платок и маленькое колечко с поддельным камнем, купленное им в Копенгагене.
— Адрец тут же лежит, на платочке… Маменька ихняя торгует на рынке… Так напишите ей, что она напрасно тогда не верила… Думала, что я так только… и все смеялась. Напишите ей, барин, что ежели я путался с другими, так от обидного моего сердца, а желанная была она одна. И напишите, что я шлю ей свой нижайший поклон, целую в сахарные ее уста и дай ей бог всякого благополучия. Напишете, барин?
— Напишу.
— А затем спасибо вам за все, добрый барин. Простимся!
Сдерживая рыдания, гардемарин, поцеловал матроса и выбежал из лазарета.
VIВ ту же ночь молодой матрос умер.