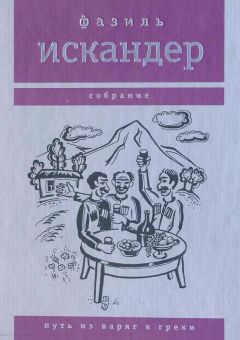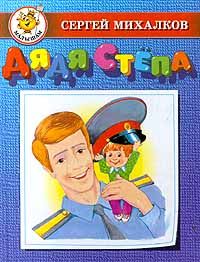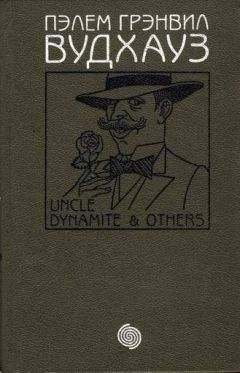Владимир Набоков - Под знаком незаконнорожденных
Вслед за этим zemberl препроводил Круга к ministru dvortza фон Эмбиту (немецкого происхождения). Эмбит немедленно объявил себя смиренным поклонником кругова гения. "Mirokonzepsia", сообщил он, сформировала его ум. Больше того, его двоюродный брат учился у профессора Круга, известного медика, -- это часом не родственник? Нет. Несколько минут ministr предавался светской болтовне (странная была у него привычка слегка всхрапывать, прежде чем что-то сказать), потом взял Круга под руку, и они пошли длинным коридором с дверьми по одной стороне и просторами гобелена, то оливковою, то салатно-зеленого, изображающего что-то вроде бесконечной охоты в субтропических кущах, -- по другой. Гостю пришлось осмотреть различные комнаты, т.е. его провожатый тихо приотворял дверь и уважительным шепотом направлял его интерес на тот или иной объект, достойный внимания. Первая из показанных комнат вмещала выполненную в бронзе контурную карту страны; города и села представлялись на ней разноцветными полу- и вполне драгоценными камнями. В следующей юная машинистка вникала в содержание некоторых документов, и так погружена была она в их расшифровку, и так неслышно проник в эту комнату ministr, что барышня дико завизжала, когда он всхрапнул у нее за спиной. Затем навестили классную: десятка два смуглых армянских и сицилийских мальчиков старательно что-то писали за красного дерева партами, а их eunig, жирный старик с крашенными волосами и налитыми кровью глазами, сидел перед ними и раскрашивал ногти, и зевал, не раскрывая рта. Особенный интерес представляла совершенно пустая комната, в которой какая-то вымершая мебель оставила медвяно-желтые квадраты на коричневатых полах: фон Эмбит тут задержался и Круга заставил задержаться, и указал ему молча на пылесос, и постоял, елозя глазами туда и сюда, как бы порхая ими по святыням древнего храма.
Однако кое-что еще более поразительное имелось в запасе pour la bonne bouche. Notamment, une grande pice bien claire со столами и стульями скромной лабораторной породы, и нечто, смахивающее на особо крупный и сложный радиоприемник. Из этой машины исходило постоянное уханье вроде биения африканского барабана, и трое врачей в белом подсчитывали число ударов в минуту. Со своей стороны, два грозной наружности молодца из личной охраны Падука контролировали докторов, производя отдельный подсчет. Хорошенькая медсестра читала в углу "Отброшенные розы", и личный врач Падука, огромный мужчина с младенческим личиком и в запыленном на вид сюртуке крепко спал за проекционным экраном. Тумм-па, тумм-па, тумм-па, повторяла машина, и время от времени лишняя систола слегка нарушала ритм.
Обладатель сердца, к усиленным стукам которого прислушивались эксперты, помещался в своем кабинете в пятидесяти примерно футах отсюда. Солдаты его охраны -- сплошь кожи и патронташи -- придирчиво рассмотрели бумаги Круга и фон Эмбита. Последний господин по забывчивости не прихватил фотокопии со свидетельства о рождении, а значит не мог быть пропущен -- к большому его, но впрочем добродушному огорчению. Круг вошел один.
Падук, затянутый от карбункула до мозолей в серое полевое сукно, стоял, сложив за спиною руки и повернувшись этой спиной к читателю. Одетый и установленный описанным выше образом, он стоял перед унылым французским окном. Драные облака неслись по белесому небу, чуть дребезжало в окне стекло. Комната, увы, когда-то была бальной залой. Стены ее оживляла густая лепнина. Несколько стульев, плывших по пустынной глади зеркал, были раззолочены. Также и радиатор. Один угол комнаты срезал огромный письменный стол.
-- Я тут, -- сказал Круг.
Падук повернулся на каблуках и, не глядя на посетителя, прошествовал к столу. Там он утоп в обтянутом кожей кресле. Круг, которому начал жать левый ботинок, поискал куда бы присесть, не нашел и оглянулся на золоченые стулья. Однако хозяин дома предусмотрел и это: раздался щелчок, и копия klubzessela [кресла] Падука выскочила из ловушки вблизи стола.
Физически Жаба мало переменился, разве что каждая из частичек видимого его организма расширилась и загрубела. Клок волос на макушке шишковатой, до синевы выбритой головы был аккуратно расчесан надвое. Был он прыщавее, чем когда-либо, и приходилось гадать, какой же могучей силой воли должен обладать человек, чтоб удержаться и не выдавить черные головки, засорившие грубые поры крыльев и окрестностей крыльев его толстоватого носа. Верхнюю губу уродовал шрам. Кусок пористого пластыря был прилеплен сбоку от подбородка; еще больший кусок с замызганным уголком и сбившимся ватным тампоном виднелся в складке шеи, как раз над жестким воротом полувоенного френча. Словом, он был немножко слишком поганым, чтобы казаться правдоподобным, поэтому давайте позвеним в колокольчик (что в когтях у бронзового орла), и пусть похоронщик слегка его приукрасит. Ну вот, кожа вычищена и обрела марципановый ровный оттенок. Лоснистый гладкий парик с изысканно переплетенными рыжими и белокурыми прядями прикрывает голову. Розовая краска спрятала непристойный шрам. Право, прелесть что было бы за лицо, если бы нам удалось закрыть ему глаза. Но как ни давили мы на веки, они распахивались снова. Я никогда не замечал, какие у него глаза, или же его глаза изменились.
Они были как у рыбы в запущенном аквариуме -- тинистые, бессмысленные гляделки, к тому же бедняга смертельно смутился, оказавшись наедине с большим, тяжелым Адамом Кругом.
-- Ты хотел меня видеть. В чем твои горести? В чем твоя правда? Люди вечно хотят видеть меня и говорить со мной о своих горестях, о своих правдах. Я устал, мир устал, мы оба устали. Горести мира -- мои горести. Я говорю им: говорите со мной о горестях ваших. Чего же ты хочешь?
Этот маленький спич был пробормотан медленно, ровно, невыразительно. И, пробормотав его, Падук склонил главу и уставился на свои руки. То, что осталось от его ногтей, выглядело узенькими полосками, потонувшими в желтоватом мясе.
-- Ну, что же, -- сказал Круг, -- коли ты так это излагаешь, dragotzennyi [дражайший], то я хочу выпить.
Телефон уважительно звякнул. Падук выслушал его. Щека у него, пока он выслушивал, дергалась. Затем он передал трубку Кругу, который с удобством облапил ее и сказал: "Да".
-- Профессор, -- сказал телефон, -- это всего лишь совет, не более. Как правило, Главе Государства не говорят 'dragotzennyi'.
-- Понятно, -- сказал Круг, вытягивая ногу. -- Кстати, не откажите в любезности, принесите сюда коньяку. Обождите немного---
Он вопросительно взглянул на Падука, и тот сделал отчасти проповеднический, или же галльский жест усталости и отвращения -- поднял обе руки и уронил их снова.
-- Один коньяк и стакан молока, -- сказал Круг и повесил трубку.
-- Больше двадцати пяти лет, Мугакрад, -- сказал Падук, помолчав. -- Ты остаешься прежним, но мир кружится. Гумакрад, бедный, маленький Гумрадка.
-- И тут, -- сказал Круг, -- они разговорились о былых временах, вспомнили учителей с их причудами, -- одними и теми же, не странно ли, на протяжении многих лет, и что же могло быть забавней привычных вычур? Брось, dragotzennyi, бросьте, сударь, все это мне знакомо, да к тому же, у нас есть что обсудить, и оно важнее клякс и снежков.
-- Ты можешь пожалеть об этом, -- сказал Падук.
Круг побарабанил пальцами по своему краю стола. Затем нащупал длинный нож для бумаг, слоновая кость.
Вновь зазвякал телефон. Падук послушал.
-- Тебе советуют ножа здесь не трогать, -- сказал он Кругу и, вздохнув, положил трубку. -- Зачем ты хотел меня видеть?
-- Я не хотел. Хотел ты.
-- Ладно, зачем я хотел? Тебе это ведомо, бедламный Адам?
-- Затем, -- ответил Круг, -- что я единственный, кто способен встать на другой конец доски и заставить твой край подняться.
В дверь отрывисто стукнули и вошел, звеня подносом, zemberl. Он расторопно обслужил двух друзей и вручил Кругу письмо. Круг отхлебнул и начал читать, что там написано. "Профессор, было написано там, -- Ваши манеры все еще некорректны. Вам следовало бы принять во внимание, что несмотря на узкий и ломкий мостик школьных меморий, соединяющий ваши две стороны, вглубь их разделяет пропасть величия и власти, которую даже гениальный философ (а именно таковым Вы и являетесь -- да, сударь!) не имеет надежды измерить. Не должно Вам допускать себя до этой гадкой фамильярности. Приходится вновь предупреждать Вас. Умолять Вас. В надежде, что туфли не слишком жмут, остаюсь -- Ваш доброжелатель."
-- Ну-ну, -- сказал Круг.
Падук омочил губы в пастеризованном молоке и заговорил еще более хриплым голосом.
-- Теперь позволь, я тебе скажу. Они приходят и говорят мне. Почему медлит этот достойный и умный человек? Почему не служит он Государству? И я отвечаю: не знаю. И они также теряются в догадках.
-- Это какие же такие "они"? -- сухо осведомился Круг.
-- Друзья -- друзья закона, друзья законодателя. И деревенские общины. И городские клубы. И великие ложи. Почему это так, почему он не с нами? Я лишь эхо их вопрошаний.