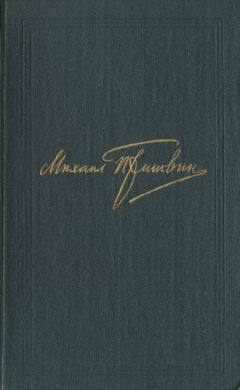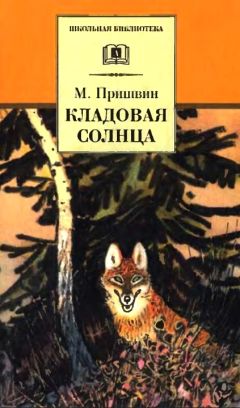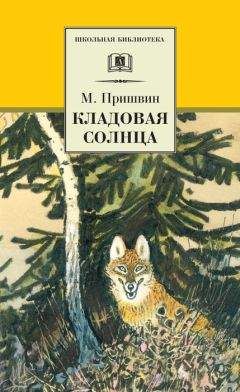Михаил Пришвин - Том 5. Лесная капель. Кладовая солнца
Смотрю, как один казах режет барана, а другой казах (акын) поет стихи о том же, о том, что казах режет горло барану. Я никак не могу себе представить, чтобы акын одновременно и резал барана и пел. По-моему, для того, чтобы петь о баране, у поэта должна быть еще какая-то пустота, вроде как «люфт» в рулевом рычаге машины.
Освобождающая от прямого действия пустота непременно входит в состав души поэта, все равно как на мельничном колесе непременно должны быть пустые ящики, в которые льется вода. Льется чужая жизнь в пустоты поэтического колеса и тут принимается, как своя собственная, и этот миг пребывания чужого в своем порождает не менее полезное действие, чем тоже очень кратковременное наполнение пустой ячейки турбины.
Моя охотаНекоторые приписывают мой хороший вид питанью и воздуху: «Вы прекрасно выглядите, наверное, по своему обыкновению, в лесу живете. Как охота?» Я всегда вежливо отвечаю, что лес и охота самые лучшие условия для здоровья… Мой лес! Моя охота! Если бы только побывали они в болотных комариных лесах, часами бы погуляли под песни слепней! И тоже – охота моя! Внешней обыкновенной охотой я скрываю, оправдываю в глазах всех мою внутреннюю охоту. Я охотник за своей собственной душой, которую нахожу, узнаю то в еловых молодых шишках, то в белке, то в папоротнике, на который через лесное окошко упал солнечный луч, то на поляне, сплошь покрытой цветами. Можно ли за этим охотиться? Можно ли кому-нибудь об этом прямо сказать? Прямо никто не поймет, конечно, но когда имеешь цель: убить куропатку, тогда под предлогом куропатки можно описывать и охоту свою за той прекрасной душой человека, которая частью приходится и на меня.
И вид мой хороший («прекрасно выглядите») происходит не от воздуха болотных лесов и не от питанья: оно самое обыкновенное. Я надеждой живу и радостью своих находок, и я имею возможность этим питаться, потому что более или менее хорошо подготовился на тот случай, если на вопрос мой кукушке о том, сколько мне жить, она, не докончив свое «ку-ку», ответит мне «кук» и улетит.
Водяная крысаЭто было в апреле на пойме, где разлив затопил леса. Кустиками над водой торчали верхушки деревьев. Я подъехал к ним на челноке, и тут на одной ветке в лучах вечернего солнца сидела водяная крыса. Она потеряла свою родину, и это событие в ее личной крысиной судьбе было не общее крысиное, а чисто личное: для спасения своего она не могла применить общий крысиный опыт, как делают все крысы и как делала она сама всю жизнь и только этим жила, и опыта этого ей было довольно. Теперь она стала как человек и должна была для своего спасения придумать что-то свое личное. Она плыла, наверное, издалека и до того была утомлена, что не бросилась в воду, даже когда я стал в упор смотреть на нее. В лучах заходящего солнца лоб ее округлился, как у человека, и что-то прекрасное, человеческое было в ее глазах, обыкновенно черных, теперь кровавого цвета, в луче заходящего солнца. Прекрасным был мне отблеск разума в крысиной судьбе, и я думал: вот и тут человек есть, в этой крысе, и везде он может быть. И тихо, боясь нарушить покой отдыхающей водяной крысы, я стал отодвигать назад свой челн.
Цветосозидающая силаОтдыхая в машине, гляжу на лес, засыпанный снегом, расцвеченный лучами заходящего солнца, и мне возвращается старая душевная мысль о том, что удержать эту красоту можно только красками и что тут в красках все дело. И мне вспомнилось одно подслушанное определение: пространство – это цветосозидающая сила…
Больше трехОдин в лесу, или вдвоем, или втроем, а когда на охоте нас больше трех, то это так много, и тогда можно быть опять как один. Вот почему город – убежище не только коллективного, но всего личного, творческого.
Борьба за прямуюПеред окном моим весь еще не залитый круг луга ровно покрыт проталинами, лужицами и белыми снежными кружками, и все эти пятна, белые, синие и желтые, рассекает белая полоска, уходящая вдаль. Невозможна в природе такая прямая полоска, увидишь – и сразу догадаешься, что это зимняя тропа человека. Но вот и на небе вижу – такая же ровная прямая разделяет одни облака от других. Смотришь на такую прямую почти суеверно: только человек бы мог провести, но какой же там в облаках человек!
И вдруг из-за облаков на синее выплывает самолет, и все становится понятным: эту прямую на небе оставил за собой человек. Так на земле и на небе идет борьба за прямую.
ВрагСлышу, треплется где-то какой-то мотор, но я в мыслях своих так далек от моторов, что не различаю – от самолета это звук, или от автомобиля, или пришел он через окно какой-нибудь фабрики, слышу – треплется звук, а спроси – и не скажу. Так и с людьми бывает: видишь, знаешь, лицо знакомое и весь знаком, а имя не вспомнишь: треплется какой-то человек. И какой это ужас: он подходит к тебе, улыбается, разговаривает, как очень близкий человек, и ты с ним тоже улыбаешься, шутишь. Но вдруг он побледнел: он понял. И я побледнел: вижу всего насквозь, а не могу назвать. «Да вы просто не узнаете меня», – говорит он жестким голосом. И тут – о счастье! – я вспомнил. «А если узнали, то назовите», – требует он. И я спокойно говорю: «Какой вы странный, и как вас-то мне и не узнать». Так один раз я спасся, а был один случай: я не узнал, он же догадался, что я его не узнал. И стал моим врагом.
Еще врагХодил в баню. Показалось, будто П. вошел и сел около меня. Я не стал на него смотреть, а то, боюсь, будет меня ругать за сына. Ухожу, а он за мной. Сажусь у крана. Он садится возле. Долго моемся рядом. Неловко. Встаю и тихонечко удираю в другую комнату.
«Ну, – думаю, – отделался, враг за мной не пойдет».
Не тут-то было: враг идет вслед за мной с шайкой, мочалкой и мылом. И опять рядом садится. «Ну, – думаю, – наверное, теперь он меня бить будет». На всякий случай переставил шайку к правой руке, чтобы схватить ее вовремя, крепко взял ее за ушки и решился, наконец решился: поднял глаза на врага и замер… Враг оказался не П., и настолько не враг, что попросил меня потереть ему спину.
Так вот сколько бывает случаев возникновения страха и неприязни к человеку только из-за того, что не хочешь глаз поднять и посмотреть на него.
Сколько раз так бывало со мной: собрался врага шайкой хватить, а вместо этого намыливаешь мочалку и трешь ему спину.
ЧитателиВечером девушки наши привезли мне из Москвы покрышки для машины. На электричке их хотели оштрафовать и стали составлять протокол. Но какой-то военный («весь осыпанный ромбами»), услыхав, что шины для Пришвина, вдруг вскочил и стал говорить, что Пришвина – писателя – он читал и готов ручаться за него, и если надо – заплатит штраф. Тогда и кондуктор, составлявший протокол, остановился и пробормотал: «Я, кажется, тоже что-то читал», – и, обещая сейчас вернуться, вышел и больше не возвращался.
АнтейЕсть тайны кельи отшельника, которые они все огулом относят к искушениям «дьявола». Такие же тайны есть и у всякого настоящего писателя. Одна из этих тайн – это, что я лучше всех. Другая состоит в унизительных обидах: там-то не упомянули, там обошли… От этих ночных келейных мыслей чувствуешь себя деревом с гнилой сердцевиной. А когда явится утренняя бодрость, открываешь окно, слышишь бормотание тетеревов, клики скворцов, видишь напряженные соком шоколадные ветки берез, серые гусеницы зацветающих осин, то, напротив, чувствуешь себя победителем всего в себе мелкого и по себе понимаешь, почему возрождался Антей, прикасаясь к земле.
Рассказы о ленинградских детях*
Ботик
На берегу Плещеева озера, вблизи древнего русского города Переславля-Залесского, на красивом холме расположена усадьба Ботик, где хранится ботик Петра Первого, один из дедушек русского флота. В летние тихие дни отсюда виднеются с противоположного берега спокойные отражения в тихих водах древних церквей, холмов с городищами, собор XI века и много такого, на что и сам Петр, со своим Санкт-Петербургом, смотрел как на древности.
Мало найдется под Москвой мест красивее Ботика: с высоты овалом шесть на девять верст стелется озеро, совершенно прозрачное, с чудеснейшим пляжем; направо, часто из дымки, выступает древний город, как невидимый град, налево – леса, не дачные, а дикие, с лосями, медведями, и уходят, почти без перерыва, на север.
Двадцать лет тому назад мы жили здесь совсем уединенно, в белом дворце, среди старинных берез, будто бы екатерининского времени. Только один раз в году, в Петров день, когда расцветают все травы, сюда во множестве собирались переславские граждане почтить память Петра. В другое время редким, случайным посетителям усадьбы мы показывали памятник, поставленный в 1852 году владимирским дворянством Петру Великому. На этом памятнике золотыми буквами по серому мрамору был написан грозный указ царя о неминуемом возмездии потомкам переславских воевод, если они не будут беречь остатки его потешного флота. После чтения грозного указа всегда оставлял в нас тяжелое впечатление вид жалкого ботика с перепревшими канатами, единственного уцелевшего суденышка от многих Петровских галер и фрегатов. Каждому посетителю должно было приходить в голову при виде ботика, что не поздно ли хватилось переславское дворянство, что, пожалуй, не миновать уже потомкам воевод петровского возмездия.