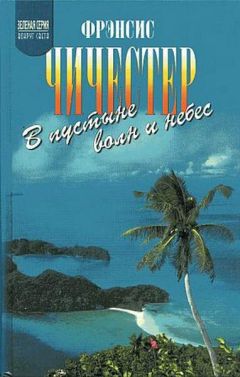Нина Берберова - Курсив мой (Главы 1-4)
В своем дневнике (от 29 ноября 1851 года) Лев Толстой писал:"Я никогда не был влюблен в женщин. (Ему в это время было 23 года.) В мужчин я очень часто влюблялся. Я влюблялся в мужчин, прежде чем иметь понятие о возможности педерастии (подчеркнуто Толстым); но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входила мне в голову. Странный пример ничем не объяснимой симпатии - это Готье. Меня кидало в жар, когда он входил в комнату. - Любовь моя к Иславину испортила мне целые 8 месяцев жизни в Петербурге. Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем, пример Дьякова; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из Пирогова и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. - Было в этом чувстве и сладострастие, но зачем оно сюда попало, решить невозможно, потому что, как я говорил, никогда воображение не рисовало мне любрические картины, напротив, я имею (зачеркнуто: врожденно) страшное отвращение".
Толстой в 1851 году не знал, как не знал до самого конца своей жизни, что так чувствует в молодости по крайней мере половина людей. И со мной это было, только плакать не хотелось никогда и никогда "любовь" не портила мне жизни. Но я знаю теперь, что Виржинчик xoтелось иногда плакать. В этом ее чувство ко мне разнилось с моим чувством к ней.
Я увидела ее впервые на вечеринке, она ужасно кокетничала весь вечер с красивым смуглым мальчиком (позже убитым в добровольческом отряде) и не обратила на меня никакого внимания. То есть она весь вечер наблюдала за мной, не глядя на меня, а я не сводила с нее глаз открыто, не понимая, что именно притягивает меня к ней. Она была маленькая, очень худенькая, с огромными черными глазами, пунцовыми щеками и нависающими на лоб и уши тяжелыми волосами. Позже, в двадцатых годах, в Париже, я замечала, что под ней не зажигается в лифтах свет - были такие лифты, в которых свет включался автоматически, когда человек входил в лифт и пол от тяжести опускался, так вот она была так легка, что свет в лифте не зажигался. Она тогда пять лет пробыла в различных санаториях в Пиренеях и умерла от туберкулеза, перед смертью приняв православие и изменив свое имя на мое. И тогда, в Париже, она напоминала мне - этими черными волосами и пунцовыми щеками - Альбертину Пруста. Только у Альбертины не было высоких скул, и темных кругов под глазами, и этого глухого кашля, и жарких ладоней, когда ежедневно у Виржинчик поднималась температура.
Я носила ее по комнатам, слушала, как она играет Метнера и Скрябина, а потом мы садились или ложились с ней на диван и часами говорили, как будто до нашей встречи
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой.
Как будто Россия разлетелась на куски только для того, чтобы нам обрести друг друга. Я оставалась ночевать, мне стелили на диване, мы продолжали разговор до двух, до трех часов ночи. Никогда раньше я не испытывала такой радости от того, что была с кем-то вместе, никогда раньше не было в моих отношениях с другим человеком такого волшебства, такого творчества в мечтах и мыслях, которые тут же переливались в слова. Я не могу назвать это дружбой, я должна перенести это в область любви, в область иного измерения, чем то, в котором я до сих пор привыкла жить и чувствовать. Ей особенно свойственны были два круга настроений: круг тихой и глубокой грусти и круг юмора. Она была восприимчива и задумчива, и к ней невозможно было подойти с обычными мерками: она никогда не выезжала из маленького городка, где родилась и прожила двадцать лет, она едва кончила гимназию - всегда болея, неделями пропуская классы. Теперь считалось, что она сидит со мною рядом, на той же парте, но она почти не появлялась, ее держали взаперти, при ее слабости ей опасно было оказаться в толчее трамвая. Она играла на рояле, больше читая с листа, чем разучивая, повторяя часами одну и ту же музыкальную пьесу с полными слез глазами - от волнения и восторга. Потом она куталась в платок, в углу дивана, ее длинные ресницы опускались, и чудная ослепительная и все-таки болезненно-сонная улыбка появлялась на ее лице. И запах "ориган", который тогда был в моде и одна капля которого доставляла нам столько радости, шел от ее волос, падавших все ниже на худенькое, серьезное, иногда печальное лицо.
Я садилась около нее, и она клала мне голову на плечо, или я клала голову на ее колени, никто не удивлялся, глядя на нас, когда входил в комнату, как мы часами сидим так и не можем расстаться, мне давно пора домой учить латынь и тригонометрию, ей пора в кровать, доктор велел ложиться рано. И вот глубокой ночью я бегу через базарную площадь, сперва мимо русского собора, потом мимо армянского собора, потом по Софийской улице, и в голове одна мысль: как мы опять увидимся завтра, как я приду к ней или она придет ко мне, как мы обрадуемся друг другу.
Через год, когда юг России пал, мы уже жили вместе, они всей семьей переселились к нам в дом, и в ту ночь, когда грохотали оружия и рвались снаряды, мы сжимали друг друга в объятиях от страха и ощущения несущегося на нас грозного будущего, которое открывалось нам за этими ночами. Я не могла тогда знать, что ровно через двадцать пять лет я буду опять укрывать ночами кого-то от падающих бомб и искать непременно капитальную стену, возле которой, как говорят, стоять безопаснее, и буду закрывать своей дрожащей рукой испуганные (но на этот раз светлые) глаза, чтобы тот, кто прижимается ко мне, не видел, как, фиолетовым светом озаряя замерший Париж, летит смерть, метя в нашу крышу!
Юг России пал. Мимо дедовского дома проехал отряд буденовцев: на одном из красноармейцев был широкий горностаевый палантин, заколотый бриллиантовой брошкой, а на остальных - мохнатые банные полотенца, которые издали можно было принять за горностаевые палантины, заколотые английскими булавками. Я стояла у окна и смотрела на них, а Виржинчик в это время дочитывала "Пана" Гамсуна и лукаво спрашивала меня:
- Что такое любовь? - и сама отвечала: - Это ветерок, шелестящий в розах.
Я оборачивалась к ней и очень серьезно говорила, что я давно обдумала этот вопрос и что для меня он навсегда решен: это один артишокный листик, съеденный двумя людьми. Она слушала цоканье копыт по мостовой, ржанье лошадей и ругань и говорила:
- Артишоков больше не будет. Артишок будет забыт. В энциклопедических словарях к нему будет стоять: "устар.".
Шли обыски. Мужчин посылали чистить отхожие места в казармах, и отец, надев чистый крахмальный воротничок, тоже пошел. Виржинчик никогда не знала своего отца: он бросил ее мать, когда она была беременна ею, и теперь в Ереване был видным партийцем, расстреливал, и вешал, и посылал обыскивать тех, кто еще носил крахмальные воротнички.
До последнего дня, пока можно было, я ходила в университет. Это был историко-филологический факультет, и я слушала греческий, археологию, историю искусств, языковедение, но во всеобщем распаде того года (1920-го) я редко умела сосредоточиться, скучала на лекциях, мало училась дома. Профессора были замучены страхом и голодом, большинство из них перешло из Варшавского университета, люди тусклые и старомодные. А дома из отца и матери постепенно уходила жизнь - я иначе не могу определить этого, - в то время как во мне жизнь бурлила, требовала выражения, действия, и чем больше делался гнет и чем сильнее лишения, тем больше я начинала "шляться", по выражению домашних, - шляться куда придется, с кем придется, - потому что с каждым месяцем я чувствовала себя все увереннее, все свободнее, и мерка моя к людям изменялась: я уже не искала среди них того, кто мог говорить со мной о Брюсове и Блоке, или о Троцком и Мартове, или о Скрябине, - я брала тех, кого посылал мне случай, и иногда искала самого простого, непосредственно-грубого забвения, никого по-настоящему не выбрав, никого по-настоящему не предпочтя.
- Культ забвения, - говорила Виржинчик. Мы не ревновали друг друга ни к кому.
"Wanderjahre" мои, собственно, все еще продолжаются. У немцев "Wanderjahre" следуют за "Lehrjahre", и потом, вернувшись, так сказать, к исходной точке, человек начинает жизнь. У нас, в России, вместо "годов странствий" люди в большинстве имели "годы распутства" - в разной степени силы этого понятия. В слабой степени имела их и я. Книг я не читала больше, стихов почти не писала, едва-едва помнила о колодце и роднике и в тайном отчаянии примирялась с тем, что почти ничего не падает мне в руки. Раза два за этот год я едва не стала чьей-то женой, и я бы стала, если бы я не думала, что лучше бежать от всякого серьезного сближения и никому не отдавать своей свободы. Я втайне понимала, что такое положение вещей не может продолжаться вечно, я знала, что "мое" вернется, потому что была Виржинчик и наше с ней общее. Что было бы со мной без нее? Ничего не говоря мне обо мне, она все понимала и никогда ни в чем не останавливала меня, глядя, как я живу и трачу себя.
Больше всего меня увлекала в эти месяцы мысль о том, какие все люди разные и как по-разному складываются мои с ними отношения, неумышленно, словно я поворачивалась силою вещей к разным людям разными своими сторонами. Помню, что были отношения страстной силы, когда, как Бунин однажды мне сказал, два человека только и ждут, когда закроется за ними дверь и повернется замок, чтобы "кинуться друг к другу и вцепиться друг в друга, как звери"; и была почти любовь с одним приезжим петербуржцем, с которым внезапно создалось нечто вроде мирной общей жизни, уютной, словно мы уже лет двадцать жили вместе; забота друг о друге: не болит ли что? не грустно ли сегодня? пойдем вместе, съедим что-нибудь вкусное, приляг, усни, а я тут посижу, посторожу тебя... И еще была короткая встреча, на время смутившая мою гордость: выкручивание рук (с кем вчера ушла?), тяжелый кулак у лица (искрошу! не смеешь смотреть на другого!), - которую я не вынесла, но от которой тоже что-то во мне осталось: опыт собственной слабости и мужской силы.