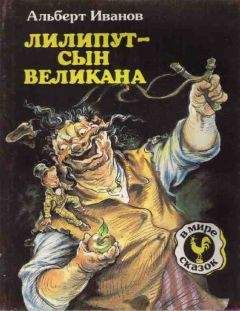Михаил Салтыков-Щедрин - Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке
Одним словом, везде, куда ни обратитесь, везде вы увидите проникновение возбуждающего начала, которое устраняет преждевременное одряхление. В одной только бюрократической профессии это начало отсутствует. Правда, что все эти «понеже» и «поелику», которыми так богаты наши бюрократические предания, такими же чиновниками изобретены и прописаны, как и те, которые ныне ограничиваются фельдъегерским окриком: пошел! — но не нужно забывать, что первые изобретатели «понеже» были люди свежие, не замученные, которым в охотку было изобретать. То было время насаждения наук и художеств, фабрик и заводов, армий и флотов. И дело было новое, и люди новые — от этого и «понеже» выходило само собой, независимо от надежды на увеличение окладов. А нынче все это примелькалось, прислушалось, приелось. Иной и рад бы «понеже» ввернуть — ан у него с души прет. Вот он и тянет канитель, дела не делает, от дела не бегает. А прикрикнут на него, заставят какую ни на есть выдумку по начальству представить — он присядет на минуту, начертит: «пошел!» — и готов.
Вероятно, в этих видах начали ныне прибегать к комиссиям. Все, дескать, на народе постыднее будет. Но тут опять другая беда: с представлением о комиссии неизбежно сопрягается представление о пререканиях. Одному нравится арбуз, другому — свиной хрящик. А так как в чиновничьем мире разногласий не полагается, то, дабы дать время арбузу войти в соглашение с свиным хрящиком, начинают отлынивать и предаваться боковым движениям. Собирают справки, раздают командировки, делаются извлечения из архивных дел, а «понеже» тем временем спит да спит непробудным сном. Да вряд ли когда-нибудь и проснется, потому что для того, чтоб осуществилось это пробуждение, необходимо, чтоб оно кого-нибудь интересовало. А кого же оно может интересовать? Те два члена, которые на первых порах погорячились и упорно остались один при арбузе, другой — при свином хрящике, давно уж махнули на все рукой. «Нѐчего сказать, — находка! — рассудили они, — собрали какую-то комиссию, нагнали со всех сторон народу, заставили о светопреставлении толковать, да еще и мнений не выражай: предосудительно, вишь!» И кончается обыкновенно затея тем, что «комиссия» глохнет да глохнет, пока не выищется делопроизводитель попредприимчивее, который на все «труды» и «мнения» наложит крест, а внизу напишет: «пошел!» И готово.
Сознаюсь откровенно: я никак не могу понять, почему пререкания считаются в настоящее время предосудительными. Пререкания в качестве элемента, содействующего правильному ходу административной машины, издавна были у нас в употреблении, и я даже теперь знаю старых служак, которые не могут вспоминать об них иначе, как с умилением. Еще недавно Удав объяснял мне:
— В пререканиях власть почерпала не слабость, а силу-с; обыватели же надежды мерцание в них видели. Граф Михаил Николаевич — уж на что суров был! — но и тот, будучи на одре смерти и собрав сподвижников, говорил: отстаивайте пререкания, друзья! ибо в них — наш пантеон!
А Дыба с своей стороны удостоверял:
— Что положение пререкателей было небезопасно — это так; что большинство их кончало служебную карьеру, рассеянное по лицу земли, — и это верно. Но бывали, однако ж, случаи, когда и скромный голос советника губернского правления достигал до ступенѐй-с…
И затем, застыдившись и крякнув (дело, очевидно, касалось его личности), присовокуплял:
— Я сам один пример такой знаю. Простой советник, а на целую губернию сенаторский гнев навлек-с. Позвольте вас спросить: если б этого не было, могла ли бы истина воссиять-с?
Как хотите, а я положительно стою на стороне Удава и Дыбы. Конечно, я понимаю, что собственно «пантеона» тут нет, но ежели уж ничего другого не выработалось, то пусть остаются хоть пререкания. Если нет подлинной надежды, то пусть будет хоть мерцание надежды. Если нет подлинных перспектив, то пусть остается в перспективе «сенаторский гнев». Не приходится нам быть прихотливыми, и до тех пор, покуда в основании нашей жизни лежит пословица: выше лба уши не растут, то ладно будет, если хоть кой-какие обрывочки «перспектив» на нашу долю выпадут. Если что̀ выпадет — лови! а не выпадет — жди и воспитывай в себе «надежды мерцание». Все-таки хоть что-нибудь, а не голое «ничего». Что же касается до власти, то и в этом отношении я согласен с Удавом: не слабость она почерпала в пререканиях, а силу. Прежде всего, общее правило: ежели надоел пререкатель, то ничего не стоит его расточить — разве это не сила? А затем и другая сила: обыватель, зная, что у него есть за спиной пререкатель, смотрит веселее, думает: пока у нас Иван Иваныч в советниках сидит, опасаться мне нечего. Так что ежели Иван Иваныч сидит долго (бывали в старину, по упущению, и такие случаи), то обыватель начинает даже гордиться и впадает в самонадеянный тон. «Совсем уж у нас не такая форма правления, как внутренние враги пишут! нет! у нас чуть немного… Иван Иваныч как раз сократит!»
Право, это было очень удобно. И прежде всего удобно для самой бюрократии, потому что смягчало ее ответственность и ограждало ее репутацию от нареканий. А главное, заставляло ее мотивировать свои действия, и в «понеже» и «поелику» искать прибежища от внезапностей. Мысль остепенялась, да и сам бюрократ смотрел осанистее, умнее. А обыватель утешался тем, что он хоть что-нибудь да понимает…
Но опытные служаки идут еще дальше. Удав, например, охотно брал на себя даже защиту ябедников и ябедничества, и опять-таки ссылался на авторитет графа Михаила Николаевича.
— Вы, сударь, не шутите с ябедниками, — говорил он мне, — в древние времена ябедник представлял собою сосуд, в котором общественная скорбь находила единственное и всегда готовое убежище. И без торгу, сударь; бери двугривенный и пиши! За двугривенный человек рисковал, что его и в бараний рог согнут, и в табак сотрут, и туда зашвырнут, куда во̀рон костей не заносил! Где нынче таких героев сыщешь! И сколько, спрошу я вас, было нужно скорбей, сколько презрения к жизненным благам в сердце накопить, чтобы, несмотря ни на какие перспективы, в столь опасном ремесле упражнение иметь? Всю жизнь видеть перед собой «раба лукавого»*, все интересы сосредоточить на нем одном и об нем одном не уставаючи вопиять и к царю земному, и к царю небесному — сколь крепка должна быть в человеке вера, чтоб эту пытку вынести! А сколько их погибло… всячески погибло-с! и под бременем презрения от своих, и под начальственным давлением! Полки можно было бы из этих ревнителей поруганной общественной совести сформировать!
— Но какую же пользу они могли приносить, коль скоро с ними так легко можно было по всей строгости поступить? — возражал я.
— А ту пользу, что сегодня, например, десять «ябедников» загублено, а завтра на их месте новых двадцать явилось! А кроме того, смотришь, одного какого-нибудь и проглядели. Сидел он где-нибудь тихим манером в кабачке, пописывал да пописывал — глядь, ан в губернию сенаторский гнев едет! Откуда? ка̀к? кто навлек?.. Ябедник-с!
Как это ни странно с первого взгляда, но приходится согласиться, что устами Удава говорит сама истина. Да, хорошо в те времена жилось. Ежели тебе тошно или Сквозник-Дмухановский одолел — беги к Ивану Иванычу. Иван Иваныч не помог (не сумел «застоя̀ть») — недалеко и в кабак сходить. Там уж с утра ябедник Ризположенский с пером за ухом ждет. Настрочил, запечатал, послал… Не успел оглянуться — вдруг, динь-динь, колокольчик звенит. Кто приехал? Иван Александров Хлестаков приехал! Ну, слава богу!
Я не утверждаю, конечно, чтоб все это, вместе взятое, представляло настоящие гарантии; я говорю только, что было мерцание надежд. Были пререкания (даже два чиновника специально для пререканий: прокурор и жандармский штаб-офицер; им же предоставлялось отирать слезы), были ябедники. Теперь пререкания признаны предосудительными, а ябедники, с распространением хороших манер, извелись сами собой. Вместе с ними извелось и исчезло достопочтенное «понеже», которое так или иначе, но все-таки остепеняло разнузданную бюрократическую мысль и налагало на нее известные обязанности. Все прочее осталось. То есть остался граф Твэрдоонто̀ с теорией повсеместного смерча и с ее краткословной формулой: пошел!
Мне скажут, быть может, что теория смерча оказалась, однако ж, несостоятельною, и вследствие этого граф Твэрдоонто̀ ныне уже находится не у дел. Стало быть, правда воссияла-таки…
А сколько он народу погубил, покуда его теория оказалась несостоятельною? И кто же поручится, что он не воспрянет и опять? что у него уж не созрела в голове теория кукиша с маслом, и что он, с свойственною ему ретивостью, не поспешит положить и эту новинку на алтарь отечества при первом кличе: шествуйте, сыны!
По-настоящему мне следовало бы, сейчас же после свидания с графом Твэрдоонто̀, уехать из Интерлакена; но меня словно колдовство пришпилило к этому месту. В красоте природы есть нечто волшебно действующее, проливающее успокоение даже на самые застарелые увечья. Есть очертания, звуки, запахи до того ласкающие, что человек покоряется им совсем машинально, независимо от сознания. Он не анализирует ни ощущений своих, ни явлений, породивших эти ощущения, а просто живет как очарованный, чувствуя, как в его организм льется отрада.