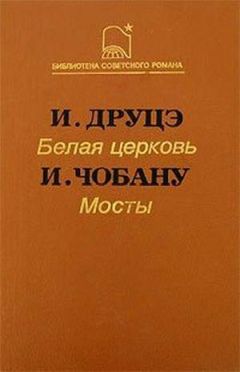Дмитрий Мамин-Сибиряк - Три конца
Груздев отнесся к постигшему Самосадку позору с большим азартом, хотя у самого уже начинался жар. Этот сильный человек вдруг ослабел, и только стоило ему закрыть глаза, как сейчас же начинался бред. Петр Елисеич сидел около его кровати до полночи. Убедившись, что Груздев забылся, он хотел выйти.
– Петр Елисеич, постой, – окликнул его очнувшийся Груздев.
– Что, опять нога беспокоит?
– Ну ее, ногу: заживет… А я все думаю про этого Кирилла, который говорил давеча о знамениях. Что это, по-твоему, значит: «и разбойник придет с умиренною душой»? Про кого это он закинул?
– Да так, мало ли что он болтал.
– Нет, брат, это неспроста сказано… Не таковский народ!.. Понимаешь: с умиренною душой.
Всю ночь Груздев страшно мучился. Ему все представлялось, что он бьется в кругу не на живот, а на смерть: поборет одного – выходит другой, поборет другого – третий, и так без конца. На улице долго пьяные мужики горланили песни, а Груздев стонал, как раздавленный.
Петр Елисеич тоже долго не мог заснуть. Ему с Нюрочкой была отведена светелка с балконом. Нюрочка, конечно, спала счастливым детским сном, а Петр Елисеич долго ворочался, прислушиваясь к праздничному шуму гулявшей пристани и пьяным песням. Чтобы освежиться, он осторожно вышел на балкон. Над Самосадкой стояла прелестная летняя ночь, какие бывают только на Урале. Река утонула в белой пелене двигавшегося тумана, лес казался выше, в домах кое-где еще мигали красные огоньки. Заслоненные дневным шумом воспоминания далекого детства поднялись теперь с особенною силой… Вот он вырос здесь, на этом мысу играл ребенком, а потом за границей часто вспоминал эту родную Самосадку, рисовавшуюся ему в радужных красках. Как рвалась его душа в родное гнездо, а потом глубокая пропасть навсегда отделила его от близких по крови людей. И сейчас он чувствовал себя чужим, припоминая тяжелую сцену примирения с матерью. Но что думать о себе, когда жизнь прожита, а вот что ждет Нюрочку, ровное дыхание которой он сейчас слышал? Спи, милая девочка, пока заботы и огорчения больших людей не беспокоят твоего детского, счастливого сна!..
VIII
Страда на уральских горных заводах – самое оживленное и веселое время. Все заводское население переселяется на покосы, где у избушек и балаганов до успеньева дня кипит самая горячая работа. Кержацкий конец уходил на берега р. Урьи и Березайки, а мочегане занимали противоположную сторону, где весело разливались Култым и Сойга. Кержацкие покосы занимали места первых заводских куреней, а мочегане делали новые расчистки, и каждый шаг покупался здесь отчаянным трудом. На заводе оставались одни старухи вроде бабушки Акулины, матери Рачителя, да разные бобылки. Исключение составляла Пеньковка, где сошлось пришлое население, не имевшее никакого хозяйства, – медный рудник работал круглый год. Все три конца пустели, и большинство домов оставалось совсем без хозяев. Закрытые ставнями окна, деревянные засовы и грошовые замки служили единственною охраной пустовавшего жилья. Воровства в Ключевском заводе вообще не было, а единственный заводский вор Никешка Морок летом проживал в конском пасеве.
Семья Горбатого в полном составе перекочевала на Сойгу, где у старика Тита был расчищен большой покос. Увезли в лес даже Макара, который после праздника в Самосадке вылежал дома недели три и теперь едва бродил. Впрочем, он и не участвовал в работе семьи, как лесообъездчик, занятый своим делом.
– Плохо тебя поучили кержаки, – ворчал на сына старый Тит. – Этово-тово, надо было тебя убить…
Макар отмалчивался и целые дни лежал пластом в балагане, предоставляя жене убираться с покосом. Татьяна каждое лето работала за двоих, а потом всю зиму слушала попреки свекрови, что вот Макар травит чужое сено. Муж попрежнему не давал ей прохода, и так как не мог ходить по-здоровому, то подзывал жену к себе и тыкал ее кулаком в зубы или просто швырял в нее палкой или камнем. Эта мертвая ненависть наводила какое-то оцепенение на забитую бабу, и она выносила истязания без звука, как рыба. Только по вечерам, когда после трудового дня на покосах разливалась песня, Татьяна присаживалась к огоньку и горько плакала, – чужая радость хватала ее за живое. Особенно веселились на покосе хохлы, вообще любившие «пожартовать». Покос старого Коваля приходился рядом с покосом Тита, а дальше шел покос Деяна Поперешного. Этот последний служил предметом общей зависти, как самый лучший: к горе выдавался такой ловкий мысок, почти кругом обойденный р. Сойгой. Весной река заливала его, и Деянов покос не боялся никакой засухи. Трава на нем росла по пояс. Расчистил его Никешка Морок и под пьяную руку сбыл за бесценок Деяну.
Ранним утром было любо-дорого посмотреть на покос Тита Горбатого, на котором старик управлялся своею одною семьей. Одних снох работало три, да сын Федор, да сам со старухой, да подсоблял еще Пашка своим ребячьим делом. На работу выходили на брезгу, а к покосной избушке возвращались, когда солнце садилось совсем. Старый Тит был неумолим и в покос не жалел своих баб. Одна Палагея пользовалась некоторою льготой и могла отрываться от работы под предлогом посмотреть внучат, остававшихся около избушки, или когда варила варево на всю семью. В первые две недели такой страды все снохи «спадали с тела» и только потом отдыхали, когда поспевала гребь и вообще начиналась раздышка.
И нынче все на покосе Тита было по-старому, но работа как-то не спорилась: и встают рано и выходят на работу раньше других, а работа не та, – опытный стариковский глаз Тита видел это, и душа его болела. Старик частенько вздыхал про себя, но никому ничего не говорил. И по другим покосам было то же самое: у Деяна, у Канусиков, у Чеботаревых – кажется, народ на всякую работу спорый, а работа нейдет. По вечерам старики собирались где-нибудь около огонька и подолгу гуторили между собой, остерегаясь больше всего баб. Народ был все степенный, как старик Филипп Чеботарев или Канусик. Из хохлов в эту компанию попал один Коваль.
– Теперь, этово-тово, ежели рассудить, какая здесь земля, старички? – говорил Тит. – Тут тебе покос, а тут гора… камень… Только вот по реке сколько местов угодных и найдется. Дальше – народу больше, а, этово-тово, в земле будет умаление. Это я насчет покосу, старички…
– Уж это что и говорить, – соглашались слушатели. – Одно званье…
– То-то вот, старички… А оно, этово-тово, нужно тебе хлеб, сейчас ступай на базар и купляй. Ведь барин-то теперь шабаш, чтобы, этово-тово, из магазину хлеб выдавать… Пуд муки аржаной купил, полтины и нет в кармане, а ее еще добыть надо. Другое прочее – крупы, говядину, все купляй. Шерсть купляй, бабам лен купляй, овчину купляй, да еще бабы ситцу поганого просят… так я говорю?
– Это ты верно… Набаловались наши заводские бабы!
– Куды ни пошевелись, все купляй… Вот какая наша земля, да и та не наша, а господская. Теперь опять так сказать: опять мы в куренную работу с волею-то своей али на фабрику…
– Э, пусть ей пусто будет, этой огненной нашей работе, Тит! Шабаш теперь!
– Ну, а чем будем жить?
– Кабы земля, так как бы не жить. Пашни бы разбили, хлеб стали бы сеять, скотину держать. Все повернулось бы на настоящую хрестьянскую руку… Вон из орды когда хрестьяны хлеб привозят к нам на базар, так, слышь, не нахвалятся житьем-то своим: все у них свое.
– То-то вот и оно-то, што в орде хрестьянину самый раз, старички, – подхватывал Тит заброшенное словечко. – Земля в орде новая, травы ковыльные, крепкие, скотина всякая дешевая… Все к нам на заводы с той стороны везут, а мы, этово-тово, деньги им травим.
Такие разговоры повторялись каждый день с небольшими вариациями, но последнего слова никто не говорил, а всё ходили кругом да около. Старый Тит стороной вызнал, как думают другие старики. Раза два, закинув какое-нибудь заделье, он объехал почти все покосы по Сойге и Култыму и везде сталкивался со стариками. Свои туляки говорили все в одно слово, а хохлы или упрямились, или хитрили. Ну, да хохлы сами про себя знают, а Тит думал больше о своем Туляцком конце.
В страду на Урале выпадают такие хорошие, теплые ночи. Над головой синее-синее небо, где-то точно под землей ворчит бойкая Сойга, дальше зубчатою синею стеной обступили горы, между покосами лесные гривки и островки. Ухнет в лесу филин, прокукует кукушка, и опять все тихо. Смолкают веселые песни, меркнут огоньки у покосных балаганов и избушек, а старый Тит все сидит, сидит и думает. Всех он знает и знает все, что делается кругом. Вон Деянова семья как проворно убирается с сеном, Чеботаревы потише, потому как мужиков в семье всего один старик Филипп, а остальные – всё девки. Работящие девки, худого слова не окажешь, а всё девки – такая им и цена. Ковали могли бы управиться наряду с Деяном, так на работу ленивы и погулять любят. Среди богатых, людных семей бьется, как рыба об лед, старуха Мавра, мать Окулка, – другим не работа – праздник, а Мавра вышла на покос с одною дочерью Наташкой, да мальчонко Тараско при них околачивается. Не велико ребячье дело, не с кого и взыскивать. Известно, ребята!.. По ягоды бегают, коней стерегут, птичьи гнезда зорят, копны возят – только ихней и работы. Присматривает Тит и свою будущую невестку Федорку, которая с маткой сено ворошит да свои хохлацкие песни поет. Ничего, славная девушка, коренастенькая такая, с крутым оплечьем и румянцем во всю щеку. Выправится – ядреная будет, как репа. Сидит у огонька старый Тит и все думает… Вот подойдет осень, и пойдет народ опять в кабалу к Устюжанинову, а какая это работа: молодые ребята балуются на фабрике, мужики изробливаются к пятидесяти годам, а про баб и говорить нечего, – которая пошла на фабрику, та и пропала. Разе с заводским балованным народом можно сравнить крестьян? Куда они лучше будут! Сиротства меньше по крестьянам, потому нет у них заводского увечья и простуды, как на огненной работе: у того ноги застужены, у другого поясница не владеет, третий и на ногах, да силы в нем нет никакой. Эх, уйти бы в орду и сесть на свою землю… Последнюю мысль старый Тит как будто прячет от самого себя и даже оглядывается каждый раз, точно кто может его подслушать. Да, хорошо было бы уйти совсем. Всю ночь думает Тит и день думает, и даже совсем от хлеба отбился.