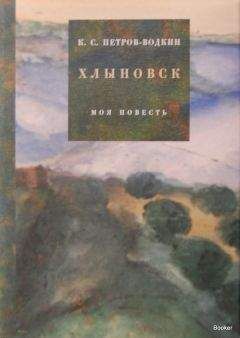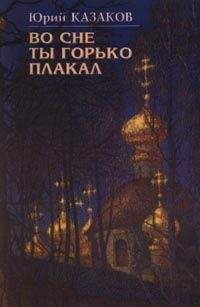Кузьма Петров-Водкин - Хлыновск
Для многих из окружающего меня люда эта фигурка из металла была «статуй идольский», «голыш бесстыдный», и меня, я отлично помню, обижало такое отношение людей к странному существу, драгоценившему воду, бриллиантами разбивающему ее на брызги. Вода, благодаря этому, низлагалась передо мной в характерных и редко видимых в природе функциях… Блеск и напряжение струи и ее ленивая, раздумчивая остановка на вершине подъема и дождевой спад назад, книзу — делали воду живой, а все это делал мальчик. Я радовался, не ища и не умея еще искать разъяснений о действии искусства, о действии вещей, не природой, а человеком сделанных. И уже после этих впечатлений я стал замечать узоры на одеждах, на чашках, деревянные украшения на фасадах, цветные рисунки Андрея Кондратыча и тутинские иконы.
Возле фонтана была большая площадка со сбегающими на нее дорожками. Здесь пились чаи. В душные ночи, при съезде гостей, сюда подавались карточные столы. После игры подавался ужин. Среди темной густоты сада блестели огни остекленных фонариков, и, удивленные светом, крутились над ними стаи мотыльков, а иногда и летучая мышь, привлеченная белизной скатертей, слепо шарахалась над столами.
Освещенные лица с черными обрезами, гримасы, прыгающие силуэты и тянущиеся по деревьям тени делали для меня действительность неузнаваемой, и говор с выделяющимися словами и фразами приобретал значение, не похожее на дневное.
Любил я наблюдать ночных людей.
Дворня спит, Я знаю, двором из конюшен и жилищ несутся храпы, а здесь передо мной чуждая этим храпам жизнь.
Лежу я у виноградной беседки на лавочке. Сзади меня темная тишина — назад оглянуться страшно, а впереди, за кустами роз и тюльпанов, прыгающие, как свет и тени, говор и смех…
В любую летнюю жару было прохладно и ароматно в этом саду, где от весенних проталинок до золотых, багряных осенних россыпей листвы находилась мне работа.
Много овощей и цветов, ухоженных моими детскими руками, произвел этот сад. Здесь я на ощупь, вплотную научился понимать законы роста и цветения растений, прихоти развертывавшейся розы и готовую к лопанью почку и борьбу с земляными условиями кочна капусты.
И здесь я получил ощущения цветовых спектров в переливах и перекличках между кровавыми бегониями, нежными левкоями и пестротою анютиных глазок.
Здесь, любовью человека поощренный, разлагался во всех нюансах солнечный спектр в лепестках, венчиках и в шапочках цветов и вспыхивал пурпуром, синевою и желтым на корпусном сложном, зеленом цвете листвы.
Глава тринадцатая
ДВОРНЯ
Утром около восьми часов пили чай.
Чай и сахар дворовые получали помесячно — пайками.
К большому столу, с двухведерным самоваром посредине, сходились каждый со своей посудой и с коробочками, содержащими разные снадобья и приправы к чаю. Чай заваривался в складчину, но были и такие, вроде Стифея Ивановича, кучера, которые имели свои чайники.
К чаю полагались пшеничный хлеб (ржаной хлеб вообще не употреблялся и даже не появлялся на базаре в Хлыновске в ту пору) и топленое молоко.
Стифей первый бросался за пенкой, покрывавшей молоко. Это был всем известный лакомка, у него всегда имелись к чаю соблазнительные для меня лакомства: то лакрица, то дивий мед, то сладкие стручки. Он дробил эти сладости на мелкие куски и клал их в жестяную с крышкой кружку, из которой пил чай.
— Ну, мои сиротики, промоем животики, — говорил Александр Васильич, кучер хозяина, человек всегда веселый и ласковый ко всем. При шутках, до которых он был любитель, он подмигивал одним глазом и открывал улыбкой щель во рту от нехватавших двух передних зубов.
И глаз и зубы Васильич потерял на охоте. Бельмо на глазу он получил в ночное время, пробираясь чащей леса и наткнувшись на сучок. Зубы выбил об голову волка: под пьяную руку он не рассчитал силы своего падения на загнанного зверя и хлопнулся лицом на волчий череп. Васильич рассказывал:
— Шутник, матерый, попался: я его за уши держу, а он целоваться лезет… Ушами вырвался, да и хлоп мне горшком своим по зубам… — Чую — во рту каша плавает, радугой из глаз посыпало… Ну и обозлился я в этот раз на тварь бессловесную: разжал рукавицами пасть волчью, да и плюнул в нее, в кадык самый, с зубами вместе.
На охоте были Васильичем отморожены и лицо и руки. Меня, помню, удивляло и восхищало, как он брал из плиты уголь прямо пальцами и не спеша начинал раскуривать трубочку с медной ажурной крышкой. Раскурит махорочьи корни и так же не спеша бросит уголь обратно в печку. В Васильиче даже щель во рту от выбитых зубов была предметом моего восхищения, такой он был мастер сплевывать сквозь это отверстие: трубка сбоку, а он сплюнет серединой рта в любую цель, будь то зазевавшаяся на полу муха или выпавший из плиты уголек.
Я любил слушать его рассказы. Бывало, особенно зимой, после ужина начнет он небылицы былями делать. Я таращу засыпающие глаза, чтоб не проронить чего из Васильичевой повести. Да и сама жизнь его своими событиями путала были с небылицами, и его правдивые события были куда невероятнее выдуманных.
Лошадей и собак Александр Васильич любил до самозабвения: возвращаясь часто холодный и голодный, он не брал куска в рот раньше, чем не удовлетворит и тех и других, но зато и животные платили ему любовью.
Был такой случай. Пьяный свалился Васильич в сугроб далеко от жилья, а на рассвете проезжие мужики напали на такую картину: пристяжные и коренник сгрудились возле него, лежащего в снегу; сука Лютра и кобель Стрелок вытянулись брюхами на его теле и выли, отогревая своего любимца. Вероятно, благодаря такому уходу за ним животных Васильич не окоченел окончательно.
В другой раз осенью, непробудно пьяный, завяз он с лошадьми в овраге. Сгубил бы, наверно, себя и лошадей, если бы как обезумевшая не примчалась во двор Лютра с шапкой Васильича во рту и стала скулить и метаться по дворовым… Отрядили верхового, и собака довела его до места, где завязли лошади с храпевшим в тарантасе кучером.
Такие случаи были нередко с Васильичем.
Вызовет обычно после подобной истории Прасковья Ильинична кучера, сделает строгое лицо, приготовится распечь его… А Васильич, с шапкой в руках, блестит коричневой лысиной, с виноватой улыбкой на багровом, отмороженном лице — такой добродушный, трогательный с его человечностью во всех чертах, что хозяйка теряет приготовленный тон и уже жалостливо обращается к нему.
— И что же ты наделал, Васильич?
— Виноват больно я, — отвечает он. — Никакого прекословия против вины моей не имею, Прасковья Ильинична.
— Ведь ты можешь так и Митеньку вывалить да заморозить.
— Никак нет, Прасковья Ильинична, этого быть никак не может… С Митрем Семенычем я всегда на полном чеку бываю и смотрю в оба… — Он забавно при этих словах почешет лысину.
— То бишь не совсем в оба, а в один глаз, но зато полностью.
И действительно, хозяина Васильич оберегал не меньше собак…
Итак, Васильич пускал за чаем шутку, чтоб рассеять впечатление на окружающих от Стифеевой жадности ко всему сладенькому. Эту слабость все знали, но по свойственной мужикам артельной этике старались не замечать: старик, мол, всех нас старее годами, а старый, что малый. Мужики сидели вдоль стены спинами к окнам, а женщины и я среди них с матерью — на скамьях против света.
В углу под образами сидел слепой Никифорыч. Рядом с ним караульщик Михалыч, чернобородый, с проседью, с нависшими сурово бровями и с длинными усами, стелющимися над бородой и скрывающими губы и рот. Когда он пил чай, в блюдце веером плавали его усы, которые он аппетитно и звучно обсасывал после каждого допития блюдца. При пугающей наружности Михалыч был внимательный и мягкий человек ко всем.
Вскочишь, бывало, ночью. Он с палкой на ступенях у кладовых сидит Возле него Змейка растянулась — блох ищет.
— Аль это ты, — окликнет Михалыч, — живот, что ль, прихватило?… Ну, ну…
Присядешь возле него.
— Ты что это, миленок? Ты бы спать шел…
А мне интересно, необыденно все кругом: спит дом, а бодрый Михалыч сидит себе, и в сон его не клонит. В саду тьма. Ни за что, кажется, носу бы не просунул в калитку, в пустой ночной сад…
— А как ты, Михалыч, не боишься? — спрашиваю.
— Чего же бояться, да еще в городу: зверев тут, чай, нет.
— А темнота?
— Да где она, темнота? Глянь поверх головы — столько тебе огнев, что и счесть невозможно. А если насчет злого человека — Змейка не допустит, уследит. Собачья тварь, она до всего носом доходит, от нее не укроешься.
Разговоры за чаем вертелись обычно возле ночных впечатлений.
Никифорыч встревал в разговор, описывая свою битву с бесом:
— Хлестну его по морде, а он уже с правого плеча примостится…
— Ох, Никифорыч, — скажет с сожалением Фекла-птичница. — Я, чай, мерещится все это тебе, болезный.