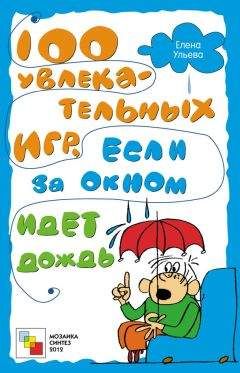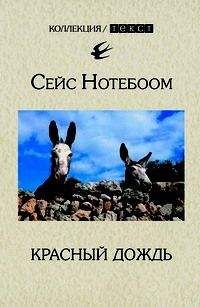Алексей Варламов - Затонувший ковчег
Глава IV. Апокалиптики и нигилисты
Как это часто водится на Руси, человек весьма деспотичный в отношениях с близкими, Виктор Владимирович по своим политическим убеждениям был последовательным либералом. "Я не разделяю ваших убеждений, но готов отдать свою жизнь за то, чтобы вы могли их свободно высказывать" - вот был девиз, которым он руководствовался. Хотя он никогда не принадлежал ни к диссидентам, ни к правозащитникам, идей их не разделял, считал сумасбродными и для России неприемлемыми, тем не менее преследование оппозиционеров его раздражало, и он подписывался под всеми письмами в их защиту. Вероятно, по этой причине его ученая карьера не имела такого блеска, какого он заслуживал, его, как могли, придерживали и все-таки зажать совсем не могли. Но теперь на старости лет приходилось пожинать горькие плоды доведенных до логического конца идей. Оказалось, что политическая свобода еще не все или даже совсем не то, что требовалось, потому что, кроме порабощения общественного, позволявшего, однако, сохранить свое "Я", пускай даже ценой отказа от карьеры, существовало еще более тонкое и лукавое порабощение. Странно, но люди в массе своей не казались ему более свободными - он чувствовал в них вирус стадности. Они стали необыкновенно внушаемы, и любой подонок, сумей он на этой внушаемости сыграть, мог бы добиться того, что никаким большевикам и не снилось. Еще в ту пору, когда два следователя были национальными героями, а вся страна затаив дыхание смотрела, как ей морочат голову, почудилось ему, что опасность не в коммунистах недобитых кроется, независимо от того, брали они взятки или нет, а в чем-то другом, менее очевидном, но куда более значительном. Или, вернее, что коммунисты - это лишь частный случай соблазна, принимающего самые различные формы, и Бог весть, к каким последствиям эта незащищенность от новоявленных пророков могла привести. Подлинная же беда российская - ее сектантство. Сколь ни поднималось государство, сколь ни крепло на зависть соседям, сектанты все разрушали. Секты декабристов и народников, хлыстов и духоборов, большевиков и диссидентов, секты "новых русских" и Божественного Искупителя - как по заколдованному кругу мчимся, и снова спотыкаемся, и вниз скатываемся. Есть что-то завораживающее в этих учениях, и вовлекаются в них самые чистые души, а над ними стоят проходимцы и чужой чистотой пользуются. Сектантство и хаос, которые суть две стороны одной медали, пугачевщина и аскетизм, громадное пространство российское и тупорылая власть - вот и лихорадит русского человека, которому слишком неуютно живется меж двух полюсов. Всегда берется за абсолют одна крайность, доводится до абсурда, и тогда проливается кровь. Потому призвание интеллигенции Рогов видел в том, чтобы народ от этих крайностей уберечь. Заглядывая вперед, в то будущее, в котором Рогов жить не рассчитывал, но о котором хотя бы из-за Маши пекся, он думал, что когда страна упадет совсем низко, когда раствор этого пещерного хаоса перенасытится, то по одной жизни ведомым законам начнется обратное - кристаллизация. Разобщенные люди потянутся друг к другу, захотят закона и власти, и вот тогда-то все и решится. Тогда и потребуются те, кто имеет нравственную силу, здоровье и ум, чтобы не дать новому сектантству взять верх. А для этого надо сейчас в подполье хранить и поддерживать огонь, пока бушует непогода. Возрождение будет медленным и нескорым, но оно придет неизбежно. Только не видел академик никого, кто бы это возрождение мог начать,- видел стадо, но не было пастырей. Он глядел поверх жестокости и крови - глядел в будущее и силился понять, к кому придут люди, которым надоест друг друга убивать. И не видел. Подобно тому как Илью Петровича во времена суеверного наваждения в "Сорок втором" больше всего тревожили дети, так и Рогова ужасало то, что пустели университеты, не было тех пытливых глаз, что раньше встречались на лекциях, не было прежних вопросов, неожиданных, прямых и резких, на которые как ответить не знаешь. Скучно стало лекции читать, не для кого, и только странноватый, худо одетый бородатый мужчина лет сорока, то и дело терзавший его и на лекциях, и после лекций вопросами, ободрял Рогова.
Потерявший всех своих учеников, он нашел в нем благодарного слушателя. Так ненадолго они познакомились, и Рогову даже жаль было, что этот способный человек, оказывается, бывший директор лесной школы, работает дворником. В прежние времена, размышлял Виктор Владимирович, интеллигенция в дворницкие шла, чтобы душой не торговать и себя сохранять,- нынче же чего таиться и за доблесть измену духу считать? Теперь в школе работать и беднее, и менее престижно, чем в дворницкой, стало, так, значит, там теперь твое место, если ты учитель по совести. Но вразумительного ответа на столь прямо поставленный вопрос не услышал академик, кроме уклончивого намека на то, что есть у дворника своя гипотеза, которую надлежит ему проверить на практике, прежде чем предавать огласке. Ибо гласность поспешная, как показывают события, ни к чему хорошему не приводит. Мысль эта академику близка была, и не раз они беседовали и спорили. Это была пора, когда многие горячие умы о русской будущности и русской старине толковали. Так и сяк ее видели, ссорились, ругались, и спор их был отголоском давней распри о том, куда должна идти Россия - на Запад или на Восток. Дворник отстаивал идею национального своеобразия, толковал об исторической ошибке и необходимости историю повернуть, пока не поздно, вспять, вернуться к развилке, когда не по той дороге пошли, и сделать наново правильный выбор, и самыми распоследними словами поносил Петра Романова. Рогов предостерегал своего прыткого вольнослушателя от чрезмерного увлечения славянофильством, в котором тоже - справедливо, нет ли - определенное сектантство угадывал и приводил в качестве примера Пушкина, еще задолго до эпохального спора примирившего два течения отечественной мысли. Но дворник никакой правоты Петра не признавал. Он готов был не то что погрозить пальцем злосчастному императору, но взорвать его памятник и неожиданно разразился целой лекцией: - Мы, русские, взяли на себя непосильную ношу, когда приняли православие вслед за дряхлой и слабой Византией и отгородили себя от европейской цивилизации. Византийская религия нежизнеспособна и совершенно не приспособлена для какого бы то ни было развития. Однако молодая и бодрая Русь сумела переплавить эту мистику, преобразовать в мощнейшее созидание и поставить православие на службу собирания азиатских земель. Православие у русских было совершенно иным, чем у византийцев. Никон же отринул все самое крепкое, что было в народе, и заменил аскетичное двуперстие дряблой и женственной щепотью. Его реформа не только расколола общество, она загнала в подполье наиболее сильных и энергичных людей и открыла дорогу для трусов и приспособленцев. Она расплодила суеверие, презрение к обычной прозаической жизни, к накоплению и честности. Раскол часто сравнивают с европейской Реформацией, но ничего похожего между ними нет. Реформа Никона - это по своей сути контрреформация. Протестантство было, безусловно, прогрессивнее католичества, оно дало мощнейший толчок развитию Европы. Основой жизни каждого европейца, его нормой стал честный и добросовестный труд. У нас же все произошло наоборот. Петр пытался что-то переменить и приучить нас к Реформации, но он не поддержал староверов, причем не поддержал по сугубо личным причинам, и в том было его величайшее заблуждение. К моменту его воцарения Россия колебалась: еще можно было повернуть назад - необходимо было соединить энергию Петра с крепостью духа старообрядцев, и тогда мы не имели бы ни бироновщины, ни пугачевщины, ни восстания декабристов. Если бы Россия была вся Аввакумовской, у нас не было бы семнадцатого года. Мы имели бы совершенно другую страну, обогнавшую весь мир, устойчивую, стабильную и не допустившую, чтобы сумасбродная идея Маркса овладела большей частью ее населения и в одночасье была предана православная вера. Ту же ошибку допустили и энергичные люди - большевики, боровшиеся с религией и пытавшиеся подменить и без того расплывчатое православие никуда не годным обновленчеством. Фигура патриарха Тихона достойна равняться с Аввакумом, чего не скажешь о Сергии. С победой сергианства произошел закат русской церкви. Этого не понял весьма проницательный Сталин, восстановивший в правах не ту Церковь. То же происходит и сейчас. Лишь тот правитель, кто обопрется на старообрядцев, пока они еще окончательно не вымерли, сумеет привести Россию к процветанию. Трагедия старообрядчества и слабость его заключаются в том, что оно не сумело сохранить единства и само вдребезги раскололось. Но именно в этих маленьких осколках и сохранилась истина, и если их склеить, то тогда мы получим сосуд истинной и нерушимой веры. Рогов возражать не стал. Только подумалось ему: сколько же осталось и бродит еще по Руси таких вот чудаков правдолюбцев и правдоискателей! И Бог знает, как к ним относиться. Истина в том виде, в каком они ее разумеют, им всего дороже, но горячечность их, поверхностность суждений, самоуверенность и потрясающее легкомыслие способны увести в любые дебри. Человек этот был Рогову симпатичен и одновременно чем-то его пугал. Он старался убедить его избегать крайностей, чего бы эти крайности ни касались - политики ли, религии или искусства. Но дворник упрямо гнул свое, и общего языка найти они не могли. Однако по-человечески друг к другу привязались, и часто видели их проходящими вместе от университета до дома, где жил академик. Много было между ними говорено о российском будущем, о детях, кому в этом будущем жить придется, и много раз Рогов приглашал его подняться наверх, но застенчивый дворник под разнообразными предлогами отказывался, а потом и вовсе перестал посещать лекции. И ни тот, ни другой так и не узнали, что за всеми их спорами, поступками и делами стояла любовь к одному существу.