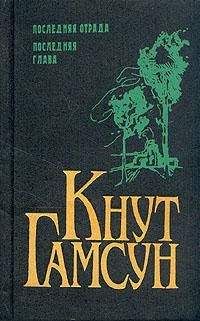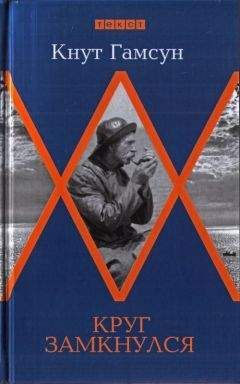Кнут Гамсун - Последняя глава
Таким образом их стало трое, а когда к ним присоединился кавалер фрекен Эллингсен, Бертельсен — то четверо. Готовая партия в безик. Эта компания могла теперь без всякого неудовольствия с чьей бы то ни было стороны занять уголок в курительном зале.
Все пошло хорошо. Они выражали друг другу досаду, что не додумались до этого раньше, чокались и чувствовали себя прекрасно. Бертельсен, лесопромышленник, не был, конечно, дворянского происхождения, но он был богатый человек, получил образование заграницей, в Соутгемптоне и в Гавре; кроме того, он был почти собственником санатории Торахус и мог бы, если бы хотел, иметь тут большой вес. И потом, как же, ведь у него был стипендиат — музыкант, отправленный в Париж. Бертельсен своим присутствием компанию не унижал. Он пожелал также своей очереди платить за вино.
Иногда компанию удостаивал своим обществом ректор Оливер и выпивал с ними стакан вина, хотя он и был самого умеренного и строгого образа жизни. Карты тогда откладывались в сторону, ректор брал стул, садился и начинал говорить.
О, ректор Оливер был не заурядный филолог, он был специалист, знал то, что другие редко знают. Этот всецело поглощенный наукой человек никогда не смеялся; он был так начинен тем, что иные называют уродованием природы, что стал слеп для мира, оживляющего чувства и радующего взоры. Но у него были свои заслуги: он был всю жизнь усердным тружеником, всегда был до крайности умерен в своих потребностях, никогда не кутил, не пил и не играл. Своих детей он учил такой же умеренности. По утрам он вырезал перочинным ножичком из газеты четыре одинаковых куска бумаги для известного употребления. Дети как-то раз спросили его, почему должно быть всегда четыре, и отец ответил:
— Мне больше не надо, четырех достаточно, пускай и на это будет правило.
Нет, он не был ни кутилой, ни мотом, но всегда был доволен дешевым табаком, кушаньем дома, у жены, и до блеска потертой одеждой на своем теле. Он удовлетворен был уважением, окружавшим его имя. Завистливые коллеги красноречиво обрушились на его докторскую диссертацию, и он тогда, как добросовестный человек, пересмотрел все свое исследование. Он колебался, но устоял и мог сказать сам себе: «Я был в сомнении, ученый ли я, но мои многочисленные книги показали мне, что да.
Посмотрите тоже на мою докторскую диссертацию, в ней целых две страницы указаний на источники». Его сомнение было побеждено.
Когда ректор Оливер приходил и садился в какую-нибудь компанию, он всегда был в полной уверенности в превосходстве своих знаний. Он мог померяться, с успехом мог померяться с кем бы то ни было, и когда он открывал рот, другим оставалось молчать. Его речи бывали всегда удобопонятны, он наизусть знал все объяснения слов в словарях и говорил толково, не употреблял иностранных слов неправильно. Конечно, это уже было много; но это было не все. К нему можно было обратиться в спорных случаях и получить авторитетное решение вопроса, он был на высоте знания. И он так охотно отвечал, он был счастлив поучить «языку», он сиял от удовольствия. При этом он пользовался случаем поговорить о самом себе, но всегда самым невинным и приятным образом, он был требователен только тогда, когда дело касалось справедливости.
У него возникли некоторые сомнения относительно Самоубийцы: этот человек должен был несомненно знать по-английски; ректор застал его как-то сидящим в совершенном одиночестве у инспектора, со старым номером английской газеты в руках; на каком же основании?
В Самоубийце было что-то загадочное, это всякий мог заметить.
— Да, — сказала фрекен д'Эспар, — об этом человеке многое можно предположить.
А так как все были согласны по этому вопросу, Бертельсен счел своим долгом усилить впечатление ее слов, сказать что-нибудь большее.
— Он, наверное, знает больше, чем мы думаем, он только немного чудаковат.
Я не сомневаюсь, что он и французский знает, и другие языки!
Ректор смутился; ему было неприятно, что он предложил Самоубийце заниматься с ним, и он не представлял себе, каким образом ему это исправить. Он совсем разнервничался. Остальные должны были его успокаивать и дать ему понять, что он не сделал ничего худого. Желая отвлечь его от этого, они перешли к общей болтовне о новостях дня, о книгах, модах, образовании, заграничных образовательных учреждениях для молодых девушек — ректор опять был в своей сфере и углубился в рассуждения. — «Идем ли мы вперед? Конечно, идем! Сравнения быть не может с тем, что было раньше. Какие у нас были санатории и загородные гостиницы, даже, когда я был ребенком? А теперь скоро на каждой горе по одной будет. У меня такое чувство, словно мы передвинулись на целое столетие вперед, мы начинаем приближаться к Швейцарии. Много ли было у нас школ, и как стояло народное образование? А теперь? Ничего нет удивительного, что нас считают одним из наиболее передовых народов мира. У нас есть врачи, пасторы, юристы и профессора, каких жаждали бы иметь многие другие страны; наша наука усваивает тотчас же все, что появляется у великих народов, мы хорошо следим за всем. О да, мы идем вперед. Вот, тут сидят две молодые дамы, они обе воспользовались благами, проистекающими от общего подъема образования, доставляемого книгами. Одно из самых отрадных явлений в нашем развитии — это несомненно улучшение положения женщины; она может стать в общественном положении наряду с мужчиной и с таким же успехом, как он, может сама избирать свой жизненный путь. Очень было несправедливо, когда в свое время некоторые завистники выставили меня, как человека несвободомыслящего, как ретрограда, как педанта, копошащегося в прошлом. Да, вы смеетесь, а ведь это действительно было. Особенно один был такой, его звали Рейнерт, сын пономаря у нас в городе; он злился на меня, потому что не мог мне простить моей докторской степени. Мы с ним были товарищами по школе и одновременно поступили в университет; но я все время шел несколько впереди его, и это было ему досадно. Он был дорого стоящий молодой человек, разорявший своего отца — в конце концов старый понамарь должен был занять деньги под будущие рождественские доходы, чтобы его расточительный сын ни в чем не нуждался. Словом, молодой человек не занимался так, как должен был, ему понадобилось на два года больше, чем мне, чтобы сдать экзамены, хотя у него и был для поощрения мой пример. Теперь он сидит учителем в одном маленьком городке Вестландии[2] и, вероятно, никогда ничем другим и не будет. Но у него было достаточно зависти и желчи, чтобы напасть на меня. Он написал, что я нагромоздил в моей докторской диссертации две страницы указаний на источники единственно только для того, чтобы притвориться ученым, а что большинство этих источников не имело никакого отношения к моему исследованию, — так говорил он. Я спокойно ответил по существу дела и добавил, что он производит впечатление человека, ослепленного личной ненавистью ко мне. Тогда ему пришел на помощь один коллега. Это был тоже не ахти кто, радикал какой-то и довольно беспутный человек, — так вот он-то обвинил меня в устаревшем толковании науки и в несовременном образе мыслей. Это меня-то! Меня, который только и делал, что облегчал всем и каждому доступ к высшему развитию. Смею сказать, у меня чистейшая совесть в этом отношении. Я даже начал было ряд публичных лекций для моих сограждан — правда, это не пошло, но то была не моя вина. Представьте себе, стою я и привожу данные относительно одной подробности из истории эллинов, и называю при этом Фукидида[3]. И вдруг один шалый парень на одной из скамей аудитории прерывает меня со смехом и спрашивает, не толстяк ли это Дид! Ну, что же мне тут было дальше делать? Вся аудитория покатилась со смеху, я сошел с кафедры и отказался от дальнейших лекций. Это была безнадежная затея. Но, не правда ли этого можно было избежать, если бы мои слушатели дольше были в школе, — ведь хорошо известно, что Фукидид не толстяк Дид. Больше школы, больше школы! И я все время, можно сказать, всю мою жизнь усердно ратовал за народное образование, я считал бы уместным, чтобы каждая простая служанка имела аттестат зрелости и была бы образованным человеком. И я признаю самые передовые мнения в области, например, женского вопроса: предоставьте им развиваться, предоставьте им равную долю жизненных прав — тогда из этого создастся, как говорит один великий англичанин, — удвоенное человечество! И так должно быть по всей линии: школы и курсы для малых и больших, для мужчин и женщин, всевозможные школы, всевозможные учебные заведения. И идет к тому, что так и будет. Женщина может теперь быть всем, чем она желает; женщин-студенток сейчас повсюду полным-полно; они могут быть судьями, врачами и учителями, у нас для всего есть школы — промышленные школы, рисовальные школы, торговые школы, курсы языков, семинарии, школы для дефективных, где даже идиоты учатся читать, учреждения, где безрукие калеки могут выучиться тому или иному ремеслу и работать ногами, школы, школы…» Ректор совсем разошелся, но был прерван одной случайностью: собеседники увидели в окно двух приятелей: Самоубийцу и Антона Мосса, которые сидели на воздухе в креслах и, казалось, зябли. Первый обратил на них внимание ректор; он отодвинулся и сказал: