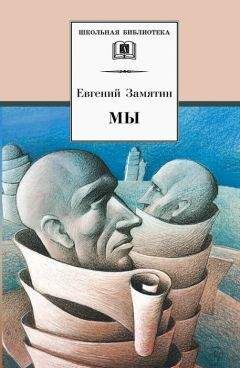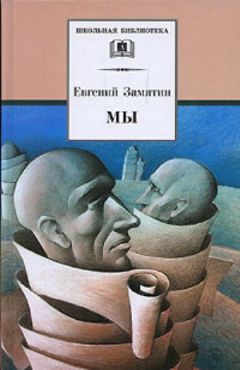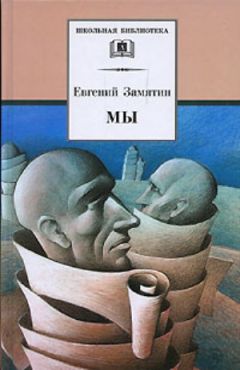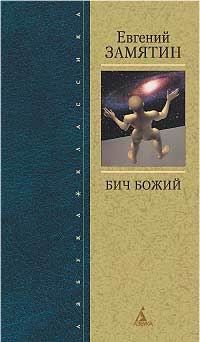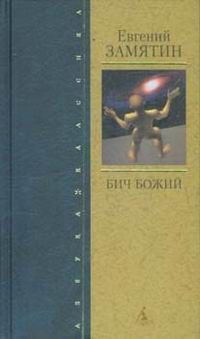Евгений Замятин - Ловец человеков (сборник)
Ломайлов выглянул в окно наружу, в ту сторону, где был домик Нечесов. «Что-то теперь Костенька? Уснул без меня, либо нет?»
Темь, мгла холодная за окном. Где-то не очень подалеку вопили благим матом: карау-ул! карау-ул! Солдаты, очесываясь, зевая равнодушно, слушали: дело обыкновенное, привышное.
Поручик Тихмень стоял уж теперь наверху, шаткий, непрочный, длинный.
– Ну и ха-ра-шо, и ха-ра-шо, и шут с вами, и уйду, и уйду… За нос, хм! Вам-то это хаханьки, а мне-то…
Тихмень толкнул раму, окно распахнулось. Внизу, в темноте, опять кричали караул, громко и жалостно.
– Ка-ра-ул, ага, караул? А я думаешь, – не караул? А мы, думаешь, не кричим? А кто слышит, ну, кто? Ну, так и кричи, и кричи.
Но все-таки высунулся Тихмень, вставил голову в черное, мокрое хайло ночи. Отсюда, с каланчи, виден был веселый огонек на бухте: крейсер, должно быть, ихний.
Был сейчас этот огонек в сплошной черняти опорой какой-то Тихменю, давал жить глазам, без него нельзя бы. Маленький, веселый, ясноглазый огонек.
– Петяшка, Петенька мой, Петяшка…
И вдруг мигнул огонек и пропал. Может, крейсер повернулся другим боком, а может, и еще что.
Пропал, и приступила темь необоримая.
– Пе-тяшка, Петяшка мой! Нечеса последний… Никто теперь не знает, никто не скажет… Ой-е-е-е-ей!
Тихмень горестно замотал головой и хлюпнул. Потекли пьяные слезы, а какие же слезы горчее пьяных?
Щекой он приложился к подоконнику: подоконник – мокрый, грязный, холодный. Холод на лице протрезвил малость. Тихмень вспомнил свой разговор, с кем-то:
– Всякий имеющий детей – олух, дурак, карась, пойманный на удочку… Это я, я… Я говорил. И я, вот, плачу о Петяшке. Теперь уже не узнать никогда – чей… Ой-е-е-е-ей!
Никогда – так крышкой и прихлопнуло пьяного, горького Тихменя. Заполонила темь необоримая. Огонек погас.
– Петяшка-а! Петя-шень-ка-а! – Тихмень хлюпал, захлебывался и медленно вылезал на подоконник.
Подоконник – страсть какой грязный, все руки измазал Тихмень. Но о сюртук вытереть жалко. Ну, уж как-нибудь так.
Вылезал все больше, – ах, конца этому нету: ведь он такой длинный. Пока-то это вылез, перевесился, пока-то это с каланчи торчмя головой бухнул во тьму.
Может и закричал, ничего не слыхали денщики. Они уж и думать позабыли о Тихмене, блажном: куда-а там Тихмень, когда французы сейчас выходят. Ох, да и молодцы же народ, хоть и жвытки они больно…
Веселой гурьбой, вполпьяна, выходили французы, скользили на ступеньках: «Ах, и смешные же русские эти… ланцепупы… Но есть в них, есть в них что-то такое…»
А за французами ползли и хозяева. Коли французы вполпьяна, так хозяевам и сам Бог велел в риз положении быть: кто еще шел – перила обнимал, а кто уж и на карачках…
Тихменя нашли только утром. Перетащили к Нечесам: у них жил живой – у них, значит, и мертвый. И лежал он покойно в зальце на столе. Лицо белым платком покрыто: расшиблено уж очень.
Капитанша Катюша навзрыд плакала и отпихивала мужа:
– Уй-ди, уй-ди! Я его люблю, я его любила…
– Ты, матушка, всех любила, по доброте сердечной. Уймись, не реви, будет!
– И подумать… Я, может, я ви-но-ва-ва-та-а… Господи, да коли бы я, правда, знала, чей Петяшка-то! Господи, кабы знать-то… а-а-а! – соврать бы ему было!
Ломайлов отгонял восьмерых ребят от дверей: так и липли к дверям, так в щель и совали нос, ох, и любопытный народец!
– Яшка, Яшутничек, а скажи: а дяде рази уж не больно? А как же? А ведь ушибся, а не больно.
– Дурачки-и, помер ведь он: знамо, не больно.
Старшенькая девочка Варюшка от радости так и засигала:
– Тц-а! Что? Я говолира – не больно. Я говолира! А ты не верил. Тц-а, что?
Уж так ей лестно брату нос наставить.
22. Галчонок
Уж февраль, а генерал все еще в городе околачивался, все боялся приехать домой. И Шмит лютовал по-прежнему, весь мукой своей пропитался, во всякой мелочишке это чуялось.
Ну, вот, выдумал, например, издевку: денщика французскому языку обучать. Это Непротошнова-то! Да он все и русские слова позабудет, как перед Шмитом стоит, а тут: французский. Все французы эти поганые накуролесили: Тихменя на тот свет отправили, а Шмиту в сумасшедшую башку взбрела этакая, вот, штука…
Черноусый, черноглазый, молодец Непротошнов, а глаза – рыбьи, стоит перед Шмитом и трясется:
– Н-не могу знать, ваше-скородь, п-позабыл…
– Я тебе сколько раз это слово вбивал. Ну, а как «позабыл», а?
Молчание. Слышно: у Непротошнова коленки стучат друг об дружку.
– Ну-у?
– Жуб… жубелье, ваше-скородь…
– У-у, – немырь! К завтрему чтоб назубок знал. Пошел!
Сидит Непротошнов на кухне, повторяет проклятые бусурманские слова, в голове жернова стучат, путается, дрожит. Слышит, чьи-то шаги – и вскакивает, как заводной, и стоит – аршин проглотил. Со страху-то и не видит, что не Шмит пришел, а пришла барыня, Марья Владимировна.
– Ну, что ты, Непротошнов, а? Ну, что ты, что ты?
И гладит его по стриженой солдатской голове. Непротошнов хочет поймать, взять ее маленькую ручку, да смелости не хватает, так при хотеньи одном и остается.
– Барыня милая… Барыня милая! Ведь я все – ведь я все-всешеньки… Не слепой я…
Маруся вернулась в столовую. Глаза у ней горели, что-то сказать. Но только взглянула на Шмита – разбилась об его сталь. Опустила глаза, покорная. Забыла все гневные слова.
Шмит сидел не читая, так. Он никогда не читает, теперь не может. Сидит с папиросой, мучительно зацепился глазами за одну точку – вот, за граненую подвеску на лампе. И так трудно неимоверно на Марусю взглянуть.
– Ну? О Непротошнове, конечно? – усмехнулся Шмит.
Подошел к Марусе вплотную.
– Как я тебя…
И замолк. Только стиснул больно ее руки повыше локтей: завтра будут здесь синяки.
На худеньком ребячьем теле у Маруси много теперь цветет синяков – от Шмитовых злых ласк. Все неистовей, все жесточе с ней Шмит. И всегда одно и то же: плачет, умирает, бьется она в кольце Шмитовых рук. А он – пьет сладость ее умираний, ее слез, своей гибели. Нельзя, некуда спастись ей от Шмита, и хуже всего: не хочется спастись. Вот сказала намедни на балу Андрею Иванычу – сорвалось же такое: «убейте Шмита». И не знает покою теперь: а вдруг?
Не забыл Андрей Иваныч тех Марусиных слов, каждый вечер вспоминал их. Каждый вечер – один и тот же мучительный круг, замыкаемый Шмитом. Если б Шмит не мучил Марусю; если б Шмит не захватил его тогда у замерзшего окна; если б Шмит на балу не…
Главное, тогда не было бы вот этого, что уж стало привычно-нужным: каждый вечер перед Андреем Иванычем не стоял бы Гусляйкин, не ухмылялся бы бланманжейной своей физией, не рассказывал бы…
«Но ведь, Господи, не такой уж я был пропащий, – думал ночью Андрей Иваныч, – не такой уж… Как же это я?»
И опять: Шмит, Шмит, Шмит… «Убить. Она не шутила тогда, глаза были темные, не шутили».
И вот как-то вдруг, ни с того ни с сего Андрей Иваныч решил: нынче. Должно быть, потому, что было солнце, надоедно-веселая капель, улыбчивая, голубая вода. В такой день – ничего не страшно: очень просто, как кошелек, сунул Андрей Иваныч револьвер в карман, – очень просто, будто в гости пришел, дернул Шмитовский звонок.
Загремел засов, калитку отпер Непротошнов. Шмит стоял посреди двора, без пальто, почему-то с револьвером в руках.
– А-а, по-ру-чик Половец, муз-зыкант! Д-давненько…
Шмит не двинулся, как стоял, так и стоял, тяжкий, высокий.
«Непротошнов… При нем – нельзя», – юркнула мысль, и Андрей Иваныч повернулся к Непротошнову:
– Барыня дома?
Непротошнов заметался, забился под Шмитовым взглядом: нужно было обязательно ответить по-французски, а слова, конечно, сразу все забылись.
– Жуб… жубелье, – пробормотал Непротошнов.
Шмит засмеялся, зазвенел железом. Крикнул:
– Пошел, скажи барыне, к ним вот, пришли, да-с, гости незваные…
Андрея Иваныча удержал взглядом на месте:
– Что глядите? Револьвер не нравится? Не бойтесь! Пока только галчонка вот этого хочу пришибить, чтоб под окном не кричал…
Только теперь увидал Андрей Иваныч: под тачкой присел, прижухнул галчонок. Крылья до земли опущены, летать не умеет, не может, еще малец.
Щелкнул выстрел. Галчонок надсаженно, хрипло закаркал, крыло окрасилось красным, запрыгал под сарай. Шмит перекосоурил рот, должно быть – улыбка. Прицелился снова: ему нужно было убить, нужно.
Быстрыми, большими шагами Андрей Иваныч подбежал к сараю, стал лицом к Шмиту, к галчонку – спиной:
– Я… я не позволю больше стрелять. Как не стыдно! Это издевательство!
Шмитовы железно-серые глаза сузились в лезвие:
– Поручик Половец. Если вы сию же секунду не сойдете с дороги, я буду стрелять в вас. Мне все равно.
У Андрея Иваныча радостно-тоскливо заколотилось сердце. «Маруся, посмотри же, посмотри! Ведь я это не за галчонка…» С места не двинулся.
Мигнул огонек, выстрел. Андрей Иваныч нагнулся. Изумленно себя пощупал: цел.
Шмит злобно, по-волчьи, ощерил зубы, нижняя челюсть у него тряслась.