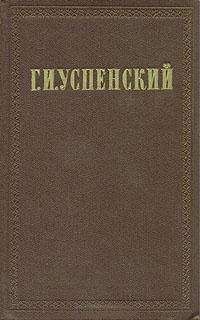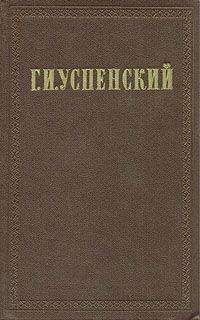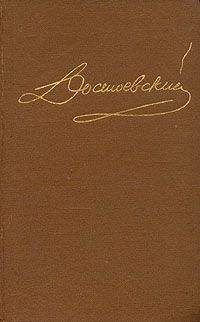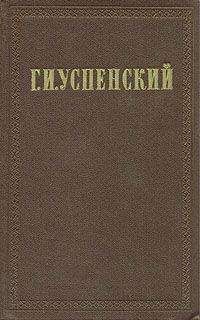Глеб Успенский - Очерки и рассказы (1862-1866 гг.)
— Что вам угодно?
— Сколько я мог заметить, вы изволите рассчитывать на успех в этом деле?.. так я считаю нужным предупредить вас, что это напрасно…
— Как?
— Так-с… Здесь дело уже сделано, и вы будете только мешать… Поэтому настоятельно прошу вас удалиться отсюда.
— Вот прекрасно! Если я хочу здесь ходить, — кто мне запретит?..
— Я-с! вот кто!
— Это каким образом?
— А таким образом, что сию минуту с будочниками отправлю вас… Извольте идти… Мало вам места на Дворянской: Оглашенова, Плешавины, Трубина… Отправляйтесь туда.
— Однако вы не кричите… — отступая, говорил обиженный Николай.
— Нечего тут рассуждать… Если хотите, мы встретимся где-нибудь еще, но отсюда рекомендую удалиться сейчас же. Слышите?..
— Чорт вас возьми, — поворачивая за угол, шопотом говорил Николай, желая отделаться от офицера, напиравшего на него грудью…
— То-то, с богом! — заключил офицер, смело ступая на завоеванную дорогу.
Николай повернул за угол, встретил целую толпу разных франтов, таких же, как и он, с такими же приемами и осанкой, которые, испугавшись грозного офицера, дерзости которого они слышали, воротились с места свидания, куда направлялись они, рассчитывая на ту же Зайкину, — ив раздумье шли, кто по тротуару, кто посредине улицы. Все они шли, казалось, куда-то в разные стороны; но на углу Дворянской улицы встретились снова; вследствие этого снова слышались разного рода объяснения: "если вы желаете интриговать Оглашенову, то это напрасно", или: "предупреждаю вас, что Плешавины положительно недоступны, кроме меня… Что делать, а поэтому — не все ли вам равно отправиться ходить в Горшковом переулке — против Резановой?", или: "вы, кажется, хотите… так не беспокойтесь, — они уехали в деревню", и проч. и проч.
Когда Николай появился на углу Дворянской улицы, то увидел, что против окон Оглашеновой — медленной поступью скитается брат Петр… Он видел, как к Петру подошел какой-то франт, как между ними произошел какой-то разговор, начавшийся со стороны подошедшего вежливым поклоном и легким приподнятием шляпы и кончившийся потрясанием кулака в воздухе… Все это видел Николай и не пошел дальше, предпочитая воротиться домой и предвосхитить, по крайней мере, ужин. — Вследствие этого предвосхищения вечером, по возвращении Петра, между нашими аристократами происходит такой разговор.
— Ты опять все щи сожрал? — говорит Петр, стоя с пустым горшком в руках перед Николаем, который закутался с головой в одеяло.
Молчание.
— Я спрашиваю тебя: ты сожрал щи?..
— Что ты орешь? — кричит что есть мочи Николай, высовывая голову.
— Ты щи сожрал?
— Чорт тебя задери совсем со щами.
— Ска-атина, брат, ты…
— Сам ты животное.
— Мужик!
— Лакей!..
— Поговори… Поговори, любезный… Я те покажу… — И проч. и проч.
Таким образом, молодые Бабковы все были обречены на вековечное скитание. Оля через полгода попала куда-то в компаньонки: с ней ездили в ряды, поручая подержать покупки, ей поверялись тайны сердца, потому что она, как специалистка по этой части, могла давать самые рассудительные советы.
— Душечка, Оленька, скажите мне, ради бога, отвечать ли мне Аркадию…
— Он писал вам?
— Три письма.
— Отвечайте.
— Что вы говорите?
— Отвечайте… Непременно… Но два, три слова… Даже лучше всего будет, если вы напишете просто: "Что вы хотите от меня? Я вас не понимаю…"
— В самом деле?
— Уверяю вас… Только сделайте вид, что вы не понимаете его искательств…
— Да-да-да. Непременно… Ах, как мне вас благодарить… — и т. д.
Но вдруг оказывалось, что этот какой-нибудь Аркадий сам состоит в переписке с Олей и пишет пламенные послания к другой, с целию отвлечь от Оли подозрения. Другая превращалась в зверя, затевался скандал, — Олю изгоняли, и она кое-как перебивалась дома, впредь до нового знакомства, до новой возможности объясниться с обожателем какой-нибудь неопытной и потому робкой в делах сердца женщины и потом вследствие успеха попасть в друзья, в компаньонки и проч. Петр в последствии времени как-то позатерся в кругу более низкого слоя, в кругу своих чиновников-сослуживцев, и немного погодя женился на дочери архивариуса, получив некоторую возможность промотать самым изящным образом полученные в приданое, долгим трудом скопленные сотни, что он и исполнил с полным совершенством, и, оставшись без гроша, несмотря на свое светское образование, — иногда посягал на косу супруги, которая поэтому заливалась горючими слезами и считала себя погибшей на веки веков. Николай оставался без пристанища. Ему никак не удавалось устроить себе даже и такой карьеры, как Петр, и поэтому ему оставалось положиться во всем на судьбу: Бушующее житейское море швыряло его из стороны в сторону; иногда он невыносимо и искренно страдал, — но внешность, внешний карикатурный вид искажал в глазах постороннего человека и страдания его, которые вместо сожаления возбуждали или смех, или то безразличное состояние, с которым посторонний человек смотрел бы на щепку, уносимую бунтующим морем: не только сожаления, но и простой мысли о том, что, мол, упала эта щепка и проч., — не приходит в голову. Точно так же безразлично относились и к Бабкову.
Страдая без постороннего сожаления, — Бабков был предоставлен исключительно случаю, который бы давал приют его ненужным в действительной жизни знаниям, его уменью рассказывать армейские анекдоты с клубничными тенденциями, уменью занимать дам, растягивая до невероятной степени разговор на тему: "что долговечнее — дружба или любовь?" и проч. и проч. Настоящая жизнь и всякий, самый ничтожный труд отвернулись от него — он и писцом даже не мог быть потому, что писал безграмотно и "как курица лапой"; оставалось искать таких же уродов, как и сам, таких же искалечивших свои потребности людей. Как ни редки теперь эти случаи — эти люди, но все-таки встречаются и они.
-
В числе наших уездных персонажей, обедневших вследствие непредвиденных событий, есть особая порода, которую можно назвать шатунами. Желательно им и жить попрежнему — желательно и от века не отставать. Первое оказывается невозможным потому, что существует третье: лень въевшаяся до мозга костей, сибаритство н крайнее непонимание, в чем дело. Второе невозможно потому, что существуют первое и третье. Люди эти поддаются влияниям то той, то другой стороны. Перемена этих влияний слишком быстра, вследствие чего шатуны эти терпят вдвое: за дело не принимаются, думая "махнуть рукою", — и рукой не махают, с минуты на минуту думая взяться за дело. Ни того, ни другого не делается, и, шатуны вечно с опущенными руками, стало быть, с явным убытком, если ко всему еще прибавить ту душевную пустоту и смертельную скуку, которая обуревает их ежеминутно: в жизни этих господ нет ни отчаянного кутежа — на последние, ни дельной работы, — а царит какая-то непроглядная мгла, переполненная всяческих мук. К числу таких шатунов принадлежит дальний родственник, какой-то троюродный внук Крюковой, молодой помещик Клубницын, остановивший неожиданно на улице Бабкова, с которым они встречались на вечерах у бабушки.
— Что вы здесь делаете?
— Скучаю, батенька! — фамильярно говорит Бабков.
— Поедемте ко мне в деревню…
— Куда же это?
— Да вот в Сосновку… Поедемте?..
— Пожалуй… Я готов…
Приятели заезжают в гостиницу, закусывают, после чего Клубницын небрежно говорит: "за мной", и выходят на крыльцо.
— Иван! — кричит Клубницын.
К крыльцу подъезжает тройка лошадей, с выдавшимися костями от худобы, с полинялыми лентами в косах, с кучером, на лице которого нельзя не заметить угрюмости и думы, несмотря на плоскую шляпу с павлинным пером, надвинутую как-то ухарски на самый лоб. Небольшая коляска, в которую садятся наши приятели, — ветха и разбита; одна рессора окручена веревками, и какие-то винты внутри ее очень стучат и дребезжат, особенно если экипаж едет по мостовой; это дребезжание винтов, эта убогость и в экипаже, и в костюме кучера, и вообще во всей обстановке Клубницына отражается на его лице каким-то мрачным облаком, какою-то тупою задумчивостию. Выезжая в поле, Клубницын слегка успокаивается и забывает только что сейчас данное себе слово починить коляску и нарядить кучера как куколку. Бабков понимает, что теперь, в момент этой дорожной молчаливости и задумчивости, — он должен как-нибудь высказать Клубницыну ту пользу, которую приобретает тот, взяв его с собою; вследствие этого он вдруг оживляется и извергает на своего компаньона Клубницына целые вороха различных анекдотов, очень живо рассказывает только что случившийся скандал с актрисой, которой какие-то шалуны подпустили воробьев, и проч. Клубницын сначала слушает все это с полуулыбкой — потому, что внимание его отвлекают эти поля, тянущиеся черной полосой, этот встретившийся мировой посредник, непоклонившийся мужик и проч. Во всем этом Клубницын видит какой-то ужасающий знак вопроса, на который он решительно не имеет возможности дать хоть какой-нибудь ответ. Но потом рассказ Бабкова, изобилующий картинами самого шаловливого свойства, постепенно сглаживает неприятное впечатление этих полей, мужиков и посредников, и Клубницын весь отдается во власть веселых пейзажей, выгружаемых целыми кушами Бабковым. Клубницын остается довольным, что взял с собою такого разбитного гостя: не придется скучать в деревне — пусть болтает. Клубницын рад, что ему есть случай забыться. Это тайное желание забыться можно объяснить тем множеством всякого рода неудач, которые в настоящее время осаждают непривычную к размышлениям голову Клубницына и рождаются вследствие отсутствия хоть каких-нибудь крупиц характера.