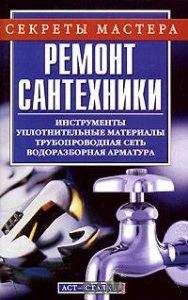Я Горбов - Асунта
Она приходила к заключениям: Филипп был потерян, в Филиппе она ошиблась. Что ей оставалось? Христина, Савелий, удушливая атмосфера квартиры Варли? Или что, что еще? Бегство? Но куда? Она не решалась, но решаться было надо.
- Я больше не голодна, - проговорила она, отодвигая тарелку. - И я устала. Я поеду домой.
- Асунта, Асунта, что с вами? Подождите, Асунта, не волнуйтесь.
- Не настаивайте.
Она встала, взяла сумочку.
- До свидания, - проговорила она и пошла прочь.
Он же, наскоро собрав костыли, тоже встал, и, смущенный, расстроенный, почти испуганный, за ней последовал. Она уже вышла в вестибюль и ей помогали надевать пальто.
- Это несерьезно, это даже странно, мадам Болдырева, - бормотал он нагнав ее. - Вы меня неверно поняли.
{91} Пока отыскивали его пальто, которое, из-за костылей, он надел с промедлением, Асунта успела выйти. Он поспешил за ней, но, увечный, шел медленно. Она уже была метрах в двадцати-тридцати впереди, и шаги свои все ускоряла. Он хотел было ее громко позвать, но не решился, испытал от своей нерешительности ущерб перешедший в невыразимое внутреннее мучение.
"Так, кажется, было, - подумал он, - когда я послал к ней Ламблэ".
Она все удалялась. Он постоял минуту, другую, о чем-то думая, что-то внутри себя переламывая. И, опустив голову, заковылял к ресторану, у дверей которого толстый швейцар смотрел на него с доведенным до совершенства выражением предупредительной вежливости, под которой никто не угадал бы ни любопытства, ни насмешки.
28. - СНЕГ
Все кругом было бело и в лучах газовых фонарей скоренько и приветливо вспыхивали падающие снежинки. Зимний этот вид улицы - только что серой, мокрой и скучной - напомнил Асунте покинутый в детстве Петербург, который, с тех пор, принял в ее мыслях облик не то чудесного сна, не то сказки. Но утешения это воспоминание ей не доставило, наоборот, она с горечью сказала себе, что как раз из-за ее русско-испанского происхождения и из-за брака со слегка азиатическим Савелием, чистокровный француз Крозье ее не понял и от нее отвернулся.
"Он принадлежит банкам, - думала она, - и только когда банки поглотит хаос, он поймет, что меня любил".
В этом квартале оживление царило лишь днем, и дома, сплошь занятые конторами и складами, были заперты наглухо, темны и мрачны. Асунта не знала, куда направляется. Ноги ее стыли, руки тоже, но щеки горели. Минут через пять, совсем для себя неожиданно, она вышла на большие бульвары, где все сверкало, где сновали автомобили. где было много прохожих. Кафе казались переполненными и из некоторых доносилась музыка. Асунта побрела вдоль ярких витрин по направлению к вокзалу Святого Лазаря. Но высокие каблуки и промокшие туфельки делали ходьбу затруднительной. У ярко освещенного входа в кинематограф она подумала об удобных, мягких креслах. С афиш улыбались размалеванные красавицы, фотогенические моряки, клоунообразные джентльмены, послы, виртуозы и дегенераты. Грум, в красной шапочке, в курточке с золотыми пуговками, зазывал прохожих, объясняя, что представлена идет беспрерывно. Асунта взяла билет, проникла в зал, в изнеможении села и закрыв глаза, наклонив голову, стала тихонько плакать. Целиком сосредоточившись на внутренней боли, она не замечала ни того, что мелькало на экране, ни того, что можно было разобрать вокруг. Музыка, чьи-то слова, {92} полутьма зала, все это осталось в другом мире, из которого она ускользнула. И вдруг грянул дружный взрыв хохота. Асунта вздрогнула, открыла глаза и увидала прославленного комика, вытанцовывавшего, жестикулировавшего, выпячивавшего из под нарочито поднятых бровей глупые глаза, терявшего и подхватывавшего продавленный котелок. Злая собачонка трепала и рвала его заплатанные штаны. Зрители были в полном восхищении. Сидевший рядом с Асунтой, великолепно веселый мальчишка сучил ногами и, давясь от смеха, выкрикивал:
- Мама, мама, штаны! Смотри, штаны! Собака срывает с него штаны !
Мама, сама сотрясавшаяся от смеха, еле выговаривала:
- Молчи, не мешай слушать.
Асунта стремительно вышла.
- Мне одиночество нужно, как нужна вода тем, которые давно не пили, бормотала она.
Идти домой и запереться было невозможно. Дома ее ждали Христина и Савелий. Дома царил дух Марка Варли.
- Нет, нет, не это, только не это, - шептала она, - лучше всю ночь пробродить по улицам.
Гнев, обида, стыд теснились в ее душе и с каждой секундой она все отчетливей ощущала как растет, как твердеет непримиримость.
- Он мне открыл путь в пустоту как раз когда я ждала слов любви, говорила она себе, - он забыл, как позвал меня из хаоса и забыл, что я, ни о чем не думая, сейчас же ответила. А теперь? После увиливания он признался, что он всего-навсего деловой человек. Деловой человек! Посылает из под обломков поезда, почти умирающий, своего друга, чтобы я про все, как можно скорей, узнала. А в ресторане официальное сообщение: прошу считать инцидент исчерпанным. Я деловой человек. Мне некогда. Деловой человек! Берет руками, а отдает ногами. Ну и пусть остается со своими делами, со своей женой толстой. И с моим отказом, в придачу. Всем, всегда будет отказ. И деловому человеку, и человеку с бабочками. Уйду в монастырь. Там ни фабрик нет, ни полос земли вылезающих из воды, ни бабочек, ни Одиссеев, ни Ханов Рунков, ни мальчиков с фокстерьером на ремешке.
И внезапно замерла: "А если мальчик уже во мне?". Она круто завернула за угол и побрела по пустынному переулку. Вскоре поравнявшись с небольшим кафе она заглянула в окно и увидала, что там почти пусто. В глубине было несколько старомодных деревянных столиков и все имело вид слегка провинциальный. Почти машинально Асунта вошла. В воздухе висело немного табачного дыма, пахло пивом и кофе, освещение было недостаточным и чистота сомнительной. За прилавком целовальник мыл и перетирал стаканы, пополнял бутылки. На все это она обратила очень рассеянное внимание, но зато тени по углам и под стенными диванчиками ее притянули: они {93} казались успокаивающими, мирными, готовыми выслушать все, что она скажет. Она заказала кофе, села в самой глубине комнаты и закрыла глаза.
Ей хотелось оживить только что ее терзавшее, и внезапно упавшее, раздражение, гнев, от которого ее отвлекло воспоминание о мальчике с собачкой, и который мог быть благотворным.
"Как я могла, ну как я могла, - повторяла она себе, - все, наверно, в этом дело. Он сразу почувствовал, что я его обманула. Он не мог не почувствовать, потому, что он меня любит. Почувствовал, что я ему изменила до признания и подумал, что мне все равно, что я ищу спокойной жизни и богатства и больше ничего. И отомстил: ты не поняла, что я тебя люблю, не дождалась, так на же, возьми: я деловой человек и могу тебе предложить место".
Асунта не замечала, что думает вслух.
- Что, милочка, не идут делишки? - услыхала она низкий женский голос и, обернувшись, увидала недалеко от себя, в тени, которую отбрасывал угол прилавка, старую женщину. Ввалившиеся губы, толстый, вздернутый нос, седые космы, выбивавшиеся из под вязанного берета, красные руки - все говорило о незавидной старости. Асунта не знала что ответить и та, воспользовавшись ее замешательством, прибавила :
- Когда девочка, вот так, как ты, сама с собой говорит, так это показывает, что делишки неважны.
- Я сама с собой говорила?
- Точно. Ты даже и этого не заметила. Ой-ой, любовь-то, любовь-то что делает.
- Почему любовь? Что вы знаете?
- Что знаю? А что бы это могло быть другое? В мои годы, когда всего повидал, не ошибешься.
- И для всех, по-вашему, одинаково?
- Для всех не для всех, а когда девочка так одна сидит и себе под нос бормочет, то яснее ясного. О-о ! Посмотри-ка в окно. Снег как валит. Бедная моя машина. Не найдешь, пожалуй; совсем занесет.
- Машина?
- Да, но не с мотором, ручная. Сама в нее запрягаюсь. Вон она. Глянь.
Асунта увидала по ту сторону переулка довольно большую, покрытую брезентом тележку.
- И придется еще ее пихать по такой погоде до улицы Ламартина, рассмеялась старуха. - Я там живу, на чердаке. Если бы он видел, так стихи бы наверно написал: "Уличная торговка" или "Бедная актерка". Что поделать, если я была актеркой? По подмосткам бегала тридцать пять лет. А оттуда все как есть видно. Это только так думают, что на подмостки выходят чтобы показаться и хлопки или свистки послушать. На самом деле смотрят и видят актеры, а не публика. Если как следует к своей роли не присмотришься, так {94} обязательно соврешь. Хочешь, не хочешь, а все наизусть выучиваешь, и любовь, и не любовь. Ни к чему, конечно. Под старость все равно швейцарихой, или вот, как я, уличной торговкой становишься. Чтобы не попасть в убежище, понимаешь? Там нашему брату хуже всех приходится, именно потому, что мы все насквозь видим. Если б еще старик был...
- Вы вдова?
- Нет. Мужа не было, даже милого дружка не было. Т. е. дружков у меня было много, только все меня побросали. Если один бросит, два, три - куда ни шло. А если больше? Поневоле себя спросишь: какая она эта самая любовь? А теперь увидала, что ты мучаешься, ну и заговорила. О твоем нутре заговорила.