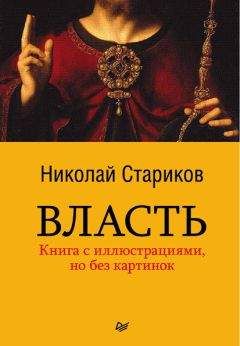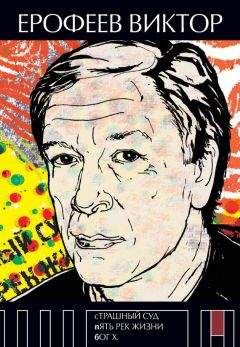Илья Эренбург - Лето 1925 года
- Не прикасайтесь ко мне! Я знаю, что вы не уважаете отчаянья. Но вы обязаны уважать Почетный Легион. Я награжден министром Изящных Искусств. Пусть убит Дюран - у него был только один кисет. Пусть слюнявый идиот любит глупую куклу. Есть, сударь, искусство! Уныние Пике, кровь Юра, парад мертвецов, будь то на берегах Соммы или в баре "Сплендид" - всю пустоту и весь звон этого мира я, если угодно - Загер, выразил в рыбе, в стеклянной рыбе, которая плавает над городом, как чудовищный дирижабль.
Эта последняя попытка сформулировать тревогу закончилась, разумеется, неудачно. Швейцар, твердо зная, что почетные ленточки не водятся на протертых пиджаках, грубыми пинками заставил меня уйти восвояси. Я испытывал сильную усталость. У меня не было ни денег, ни ночлега. Машинально побрел я в отель "Монте-Карло", к моему голубоглазому маршалу. Надо же было куда-нибудь идти. Я ждал, что хозяйка повторит жест швейцара, и немало удивился ее приветливой улыбке.
- Ах, это вы?.. Я уж тревожилась, не захворали ли вы. Ведь восемь дней, как вы ушли.
- Да, кажется, восемь. Болен? Вероятно, болен.
- Для вас два письма, одно денежное.
Вот почему она улыбалась! Но откуда деньги? Пожалуй, это не мне, а уважаемому скульптору Загеру. Ведь никто не знает, что я живу здесь. Издательство "Прибой". Откуда же они узнали адрес? Может быть, от Юра? "Уважаемый товарищ"... Я снова подозрительно оглядел конверт - мне ли это? "Трубка коммунара". Две тысячи франков. Спасибо, граждане, спасибо!
Я должен был радоваться. Но я не радовался. Зачем мне деньги? Купить восковую красавицу? Пойти в бар "Сплендид"? Или же чинно просуществовать несколько недель, философствуя над жарким и над звездами? Я тупо отбивался от мух и от предстоящего. Нехотя разорвал я второй конверт. Это было письмо от Паули.
Хозяйка должна была изумиться, как может больной так резво бегать, пропуская по две ступеньки винтовой лестницы Я, кажется, пробежал мимо оскорбившего меня швейцара. Что же, и он мог подумать: вот так философ, вот так уныние! Ведь я размахивал руками и смеялся. Я успел похлопать по спине лохматого пса, который меланхолично ловил звезды. Я успел даже понюхать пучок левкоев на тележке усатой и презлющей торговки, при чем я так улыбнулся, что, несмотря на усы и на дороговизну жизни, она ласково пробасила:
- Что же, нюхайте.
Я улыбался решительно всем: гордым шоферам, вывескам, столь часто мучившим меня, даже огням, даже знойной ночи. Ведь в письме Паули были только два слова: "Возьми Эдди".
Я плохо помню деловую сторону встречи. Радость заслонила все, вплоть до красной струйки и приоткрытого наивно рта. Видите ли, Паули говорила о спасении Луиджи. Этот ревнивый шарлатан успел уже превратиться в страдающего героя. Рисковать жизнью ради любви! Паули могла теперь кичиться перед всеми машинистками мира: губастое клише газеты "Matin" дрожит ради нее. Как она не замечала прежде, что Луиджи стоит самого Муссолини? Теперь надо (замечательное "надо" - помните - купить керосин или пойти в полицию) теперь надо спасти Луиджи. Адвокаты, свидетели, франки. Эдди? Эдди только мешает.
- Ты права, Паули. Отдай мне ее. Хотя бы на время. Ей будет у меня хорошо. Я теперь разбогател. Мы уедем из Парижа. Потом, когда его оправдают, я верну тебе Эдди. А если ты не захочешь, я оставлю ее у себя. У тебя, наверное, будет новая Эдди. Нет, не Эдди, а Биче или Беппо.
- Ах!..
Паули кокетливо покраснела. Я взял Эдди на руки. Я крепко прижал ее к моему сердцу и сердце в ответ забилось. Так я выздоровел. От радости я прыгал по большой и темной мастерской.
- Мы будем жить вместе, Эдди. Мы уедем от этих гадких кукол. Здесь сердце, как сыр под стеклянным колпаком. Здесь вместо рук перчатки. Мы уедем к траве и к собакам. Там много светляков - они как звезды и как леденцы. Я куплю тебе шоколадного негра. У собак шершавый язык от любви. Мы можем сейчас взять луну и сделать из нее мячик. Я даже думаю, что луна была мячиком, только негр закинул ее на крышу. Эдди, скажи мне, что ты хочешь?..
- Сделай из луны шоколадную собаку. Только большую. Ты сам собака. У тебя шерсть. Но ты не лаешь. Ты добрая собака.
И Эдди меня поцеловала.
18
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ГОРЕ
Я не знаю, что сказать мне о трех неделях человеческого счастья. Легко описывать тревогу, боль, или раскаяние, изъяны сердца, они тяжелы и точны, как любое выявление нашей косной природы. Но радость беспредметна. Тщетно язык, этот раб чванливого разума, ищет для нее слова. Может быть, когда-нибудь люди и достигнут невыразимого ныне совершенства. Я говорю не о машинах - о сердцах. Тогда любовь прорвет покров понятности, как прорывает бабочка фабричную труху кокона. Поэты сожгут словари, и не в зримом мире найдет художник модель. Сокровеннейшее искусство - музыка - будет выражать тогда абсолют радости, ибо радость, как солнце или как смерть, не допускает дробления. Но далеко это время. Жалко чирикают в клетках щеглы, а никому не нужные поэты умирают в кооперативах. Я знаю одного: его стихи, его глаза порука, что не лживы мои слова о грядущей свободе. Должны же быть шаги, хоть на несколько миль опережающие наши. Да, будь здесь, среди низких олив, среди смеха Эдди, Борис Пастернак, он смог бы рассказать вам об этих трех неделях. Но не мне, на линованных страничках тетрадки, ползкими как рептилии придаточными определять природу бессмысленных звуков и светлых прыжков. Нет, лучше не будем говорить о радости!
В одном признаюсь - слова Эдди оказались не только нежными, но и мудрыми. Я чувствовал, что действительно превращаюсь в собаку, которая, ласково ворча, вычесывая блох или от восторга катаясь на спине под крупными осенними звездами, просто, по-дворняжески кладет свою кудластую псиную душу за бедное человеческое счастье.
От солнца и от козьего молока Эдди быстро поправилась. Ее глаза теперь перестали недоумевать. Они радовались. Эта радость рождалась от запаха лаванды на крутых холмах, от плеска средиземных волн, которые, баюкая Эдди, укачивали тысячное поколение Богов и коз, может быть, и от моего добродушного лая, когда я удивлялся: "Эдди, почему ты смеешься?" - и сам смеялся.
Мы жили в маленькой рыбацкой хижине. Я разводил огонь и варил макароны. Охраняли нас колючие, как проволока, кактусы и наша чуждая людям радость. Я как-то сразу постарел, но эта старость была легкой. Погасив ненужные страсти, они принесла свободу. Я узнал, как хорошо жить без тщеславных помыслов и без обязательного притворства. Прошлое, будь-то писание романов или же одинокое маячение по призрачным улицам Парижа, казалось мне невнятным, как чужой и плохо пересказанный сон. Я научился штопать белье Эдди и курить трубку, ни о чем не думая. Это не было отупением. Нет, бездумье горело, как полдень на взморье, когда дрожит воздух, молчит вода, молчат цикады, а туго натянутая струна человеческого сердца звенит от переизбытка жизни, еще от близости смерти.
Много ли нужно для человеческого счастья? Солнце, четыре или пять квадратных метров, макароны и любовь. Однако нам завидовали. Улыбки не сходят даром. Они прощаются только богатым туристам и посетителям кинематографов. Нелепая радость какого-то чудака с трубкой и с девочкой раздражала наших соседей. Они не понимали, почему я улыбаюсь, и это оскорбляло их. Вначале они еще пробовали меня допрашивать. Я был слишком счастлив, чтобы обижаться. Я вежливо кланялся встречным крестьянам и заранее благодарил их. За что? За солнце, за цикад, за жизнь. Я не понимал, что эти любезные приветствия - только ловкий приемы лазутчиков. Так было установлено, что я русский, что Эдди - не моя дочь, что родилась она в Берлине, что я беден и никогда не хожу в церковь. Это оказалось достаточным, чтобы породить подлинную ненависть. Человек не умеет обрабатывать землю и у него нет ренты, следовательно, это либо уволенный чиновник, либо попросту вор. Кто знает, какие слухи ходили по деревне, не стыдясь ни мечтательных глаз бродячих кошек, ни звездной геральдики мимоз.
Давно, когда я еще жил в Париже и встречался с писателями, как-то пришлось мне обедать вместе с Мак-Орланом25. Мы вели профессионально-угрюмый разговор, - вероятно, жаловались на тупость критиков или на алчность издателей. Перечислив такое-то количество обид, мы замолкли. Кругом задорно бренчали стаканы и содержанки лавочников благоухали как садовые клумбы. Тогда невыносимое уныние смежило глаза Мак-Орлана, слабые глаза, замученные резким светом и газетной ясностью.
- Знаете ли вы, Эренбург, что станет с нашей землей, если человечество просуществует еще несколько тысяч лет?
Я не говорю о кроликах. Кролики, наверное, начнут кусаться. Но даже эта репа сделается хищной. Морковь и та будет пытаться выскочить из грядок, чтобы ущемить человеческие икры.
В нашем раю, среди лаванды и коз, оказались люди, те, что голосуют на выборах и зарывают в огород пачки обслюнявенных ассигнаций. Морковь кусалась. Оглушенный выпавшим на мою долю счастьем, я долго не замечал растущей неприязни. Двери нашего домика покрывались гадкими надписями. Булочница отказалась отпускать мне хлеб, насмешливо предлагая сдобные булочки. Мне приходилось теперь каждое утро ходить в соседний поселок. Мы подобрали как-то бездомного котенка, с мокрой от ужаса шерстью и с глазами, расширенными одиночеством. Мог ли я не узнать, в его отчаянном мяуканий тех сиротливых часов, когда я плакал под зеленым мостом Сены? Он нежно лакал молоко и мурлыканьем старался передать нам всю свою бесхитростную признательность. Он играл мячиком Эдди, как Эдди играла луной. Через три дня он пропал. Он вернулся ночью, отмеченный человеческой злобой. Кто-то остриг ему когти и обрубил хвост. Его шерсть была в крови, а плач как бы говорил: "Я теперь все знаю". Чем я мог его утешить? Повестью о подстреленном Юре или о восковых фигурантах площади Пигалль?